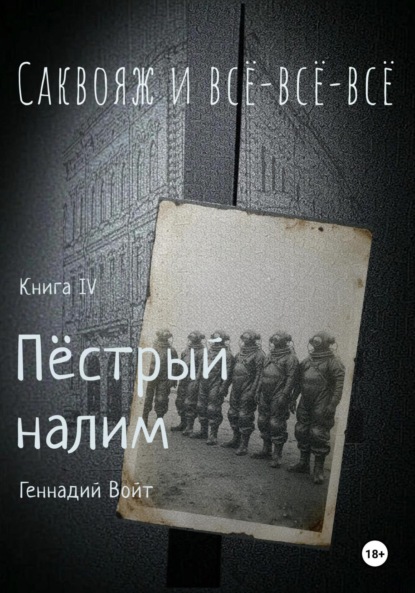
Полная версия:
Саквояж и всё-всё-всё. Пёстрый налим
София на мгновение закусила губу.
– Хорошо. Я согласна. Мне и самой теперь необходимо узнать правду о деде. Я покажу фотографию бабушке. Попробую её разговорить. Но не обещаю, что это будет легко. Она очень… закрытый человек.
– Мы всё понимаем, – сказал я с явным облегчением.
– Приезжайте, – почти прошептала она. – В субботу. Часа в два. Я пришлю адрес. Бабушка живёт на даче под Зеленогорском. Там есть чердак… возможно, там что-то осталось. Она никогда меня туда не пускала. Только… мне нужно будет её подготовить. Не уверена, что она обрадуется, но… я попробую.
– Конечно, – кивнул я. – Дайте знать.
– Хорошо, – ответила София уже более твёрдо. – Я напишу в чат после разговора. И… спасибо вам. За фотографию.
– Мы с нетерпением ждём встречи, София.
– До связи!
Экран погас. Я медленно закрыл крышку ноутбука. Мы с Гришей помолчали.
– Ну что, Витя? – нарушил тишину Гриша.
– Едем, Гриша, – кивнул я. – Кажется, наш антикварный саквояж оказался ящиком Пандоры.
***
Ожидание субботы превратилось в отдельное, довольно мучительное занятие. Время тянулось с вязкостью патоки. Гриша, забегавший ко мне ежедневно, без конца перепроверял рюкзак, где в прочной картонной коробочке покоился оригинал фотографии, а рядом, в файле, лежала его копия. Я же трижды изучил расписание электричек с Финляндского вокзала, боясь упустить какую-нибудь деталь.
Наконец, субботнее утро явило себя миру – хмурое, петербургское, с редкими прорехами бледного солнца. Нас это, впрочем, ничуть не смущало: внутри всё клокотало от предвкушения.
С Гришей мы встретились у касс вокзала в 11: 30. Купили билеты до Зеленогорска и, прихватив по стаканчику обжигающего кофе, устроились у окна в полупустом вагоне. Электричка тронулась, и за стеклом под мерный стук колёс поплыли серые городские окраины, постепенно уступая место заснеженным лесам и дачным посёлкам.
– Представляешь, Витя, – заговорщически понизил голос Гриша, – а вдруг на том чердаке не просто хлам, а целый сундук с бумагами Зор-Зенина? Дневники, чертежи, записи об экспедиции! Или даже… – он мечтательно закатил глаза, – какие-нибудь артефакты! Камни с Байкала!
– Камни с Байкала? – усмехнулся я, отхлёбывая кофе. – Гриша, твоя фантазия работает на ином топливе, нежели моя. Хотя… если там действительно что-то найдётся, обещаю, я первый полезу разбираться. Но меня больше волнует бабушка. Вдруг она нас и на порог не пустит? Или, чего доброго, выгонит с криком: «Шпиёны проклятые! »?
– Да брось, – отмахнулся Гриша. – София же сказала, что подготовит её. А София – девчонка с характером, я по глазам вижу. Если понадобится, она нас в дом контрабандой протащит.
Я хмыкнул, живо вообразив, как хрупкая София затаскивает наши тушки через окно, пока грозная старушка потрясает скалкой. Настроение от этой картины сделалось ещё лучше.
– Главное, чтобы бабушка не оказалась из тех, кто при виде незнакомцев сразу набирает 02, – добавил я.
– Ну, на крайний случай представимся учёными, – подмигнул Гриша. – Археологи-любители. Звучит солидно.
– Где-то я это уже слышал, про археологов.
Электричка неслась вперёд, постукивая на стыках рельсов. За окном мелькали сосны и нахохлившиеся от холода станции с деревянными платформами. В Зеленогорске мы вышли на перрон в 13: 15. Морозный воздух ошпарил лицо. Сверяясь с присланным Софией адресом, мы двинулись вглубь посёлка.
Минут через двадцать, попетляв по узким улочкам с высокими заборами, мы вышли к аккуратному двухэтажному дому с резными наличниками. У калитки нас уже ждала София – в длинном тёмно-синем пальто и объёмном вязаном шарфе.
– Привет! – улыбнулась она. – Вы точно вовремя. Бабушка… ну, в общем, она согласилась. Но предупреждаю: она женщина строгая и… не жалует посторонних.
– Мы будем на высоте, – заверил её Гриша, похлопав по рюкзаку.
София кивнула и повела нас к крыльцу. Дверь отворилась, и на пороге возникла она – Анна Павловна. Высокая, сухопарая, с идеально прямой спиной, она словно сошла с экрана старого советского фильма об интеллигенции. Седые волосы аккуратно собраны в низкий пучок, а пронзительные серо-голубые глаза смотрели на нас не то чтобы враждебно, но с отчётливой настороженностью исследователя, разглядывающего под микроскопом пару незнакомых инфузорий. На ней был тёмный шерстяной костюм, а на плечи накинут тонкий шёлковый платок – деталь, подчёркивавшая её сдержанную, вневременную элегантность.
– Здравствуйте, – произнесла она низким, чуть скрипучим голосом. – Вы, значит, и есть те самые молодые люди, что интересуются Сашей?
– Здравствуйте, Анна Павловна, – я постарался улыбнуться как можно обаятельнее. – Я Виктор, это Григорий. Спасибо, что согласились нас принять.
– Да уж, София настояла, она кого хочешь уговорит… – Анна Павловна чуть прищурилась, продолжая нас изучать. – Проходите. Холодно стоять.
Мы переглянулись, стряхнули с ботинок снег и шагнули в дом, где пахло сухим деревом, старыми книгами и чем-то травяным. Анна Павловна жестом указала на вешалку и повела нас в гостиную, где на столе уже дымился чайник и стояла тарелка с плюшками. София семенила рядом, бросая на бабушку быстрые, оценивающие взгляды.
– Присаживайтесь, – велела Анна Павловна, усаживаясь в старое кресло напротив. – И рассказывайте, что вас привело. Только, пожалуйста, без лишней воды. Я этого не терплю.
***
– Чая без воды не бывает, – сказала София, улыбаясь. – Давайте сначала чаю попьём, с плюшками. А уж потом и расскажете.
Анна Павловна молча кивнула, одобряя манёвр внучки. Нам с Гришей оставалось лишь послушно усесться за стол. София разлила по чашкам дымящийся напиток. Чай оказался на удивление хорош: крепкий, с терпким ароматом смородинового листа и едва уловимой ноткой мяты. А плюшки были ещё тёплыми, с соблазнительно хрустящей корочкой.
Пока мы пили чай, разговор сам собой переключился на Зеленогорск. Гриша с неподдельным восторгом хвалил свежий воздух и тишину, мол, в городе такого не сыскать. Я добавил, что погода сегодня, хоть и пасмурная, но для февраля вполне сносная. Анна Павловна, отхлебнув чаю, заметила, что зимы здесь раньше были куда суровее, но дом, вот этот, с верандой, слава богу, держит тепло даже в лютые морозы.
– Хорошо у вас тут, Анна Павловна, – сказал я, стараясь поддержать эту хрупкую атмосферу мира.
– Место и правда хорошее. Муж мой, Александр Николаевич, получил этот участок ещё в начале шестидесятых. За одно важное открытие… Тогда учёных ценили, – в голосе её прозвучала едва уловимая нотка горечи. – Он любил здесь работать. Жаль, что так недолго…
Голос её дрогнул. София тут же участливо накрыла её руку своей. Старушка на мгновение замерла, а затем, словно собравшись с силами, решительно поставила чашку на блюдце и в упор посмотрела на нас. Пауза затягивалась. Пора было переходить к делу.
Я вынул из рюкзака картонную коробочку и осторожно извлёк оттуда старую фотографию. Протянул её Анне Павловне.
– Анна Павловна, мы наткнулись на эту фотографию совершенно случайно. На обратной стороне был список фамилий, и «Зор-Зенин» обведено красным.
Она приняла фотографию дрожащими руками. Её лицо, до этого непроницаемое, как маска, дрогнуло. Уголки губ опустились, а в серо-голубых глазах блеснуло что-то похожее на давнюю, застывшую боль. Она долго всматривалась в пожелтевшую карточку, не отрывая глаз.
– Да… Саша… – наконец, тихо проговорила она. – Крайний справа… Это он… молодой ещё… Я его таким и помню… Давно это было…
– Весной шестьдесят второго года, – продолжила Анна Павловна после долгой паузы, – он уехал в экспедицию. На Байкал. Сказал, что будут испытывать новые скафандры… для глубоководного погружения… Про какие-то исследования говорил… Только и всего. Никаких подробностей. Всё, мол, очень секретно. «Вернусь – всё расскажу», – обещал. Но не вернулся… Через две недели просто пришло извещение: пропал без вести во время испытаний. И всё.
Она замолчала.
– Никаких документов, никаких фотографий не осталось. Почти ничего… Потому что… – её голос снова предательски дрогнул, – потому что почти сразу после известия о его исчезновении нашу дачу ограбили. И пытались поджечь. Еле отстояли.
– Единственное, что уцелело, – записка от него. Его товарищ в экспедиции сломал ногу. Его отправили обратно в Ленинград, я навещала его в больнице, и он передал мне эту записку. Сказал, чтобы прочла и немедленно уничтожила. А я не смогла. Это всё, что от Саши осталось.
Она медленно поднялась, подошла к старому книжному шкафу и выдвинула ящик комода. Через мгновение вернулась, держа в руках маленький, сложенный вчетверо и пожелтевший от времени листок.
– Вот, – тихо сказала она. – Читайте. Может, вам это что-нибудь скажет.
Я осторожно развернул хрупкую бумагу. На ней неровным, торопливым почерком было выведено синими чернилами:
Дорогая Анечка!
Я на Байкале. Мы отправились сюда, чтобы изучать геологию озера и его подводный рельеф, – такова официальная версия. Но ты же знаешь, как много загадок таят эти древние глубины, особенно связанных с событиями начала века.
И вот, представь себе: во время работы мы наткнулись на нечто невероятно ценное. Это не просто находка – это то, что считалось навсегда утерянным. То, что может осветить те страницы истории, о которых сейчас говорить не принято. Мы и сами не ожидали, что научная экспедиция обернётся таким открытием.
Не волнуйся, если от меня долго не будет вестей. Ты понимаешь – дело серьёзное, а связь здесь оставляет желать лучшего. Все подробности – только при встрече, обещаю.
P. S. Но знай: некоторые открытия опаснее, чем кажутся на первый взгляд. Если кто-то будет расспрашивать, говори просто: я в обычной экспедиции. Так спокойнее для всех.
Жди меня. Целую.
Твой всегда, Саша.
12 апреля 1962 года
Я дочитал и поднял глаза.
– После… после ограбления, – начала она глухим голосом, – ко мне приехали… какие-то люди. Не знаю, откуда. Форма на них была… военная, что ли… И с ними… – она замялась, – с ними был… высокий такой… в штатском. Видно было, что большой начальник. Сказал, что… курировал Сашину экспедицию.
Она сделала паузу, собираясь с мыслями.
– Он сказал, что мне лучше… забыть обо всём этом. Ничего не искать, ни о чём не спрашивать. Совсем. Сказал, что это для моей же безопасности. И для безопасности… семьи. Сказал, как только что-то станет известно, он сам со мной свяжется. Но… больше он не появлялся. Ни разу.
– Фамилию его вы не знаете? – осторожно спросил Гриша.
Анна Павловна отрицательно покачала головой.
– Нет. Он не представился. Только сказал… что из Москвы. Из ЦК КПСС… кажется, так.
– Угу, – Гриша, до этого молчавший, решительно кивнул, достал из рюкзака ноутбук и поставил его на стол.
– Анна Павловна, а если… в лицо вы его сможете узнать? Если мы покажем фотографию?
Она на секунду задумалась.
– Думаю, да. Времени, конечно, уйма прошла… Но лицо… лицо я помню. И взгляд… ледяной.
Гриша быстро застучал по клавиатуре и развернул экран к Анне Павловне. На мониторе замелькали лица. Старые чёрно-белые снимки. Члены Политбюро, министры, генералитет – вся советская верхушка. Гриша листал. Анна Павловна, чуть склонив голову, вглядывалась в экран. Тик-так, тик-так… – отсчитывали секунды ходики. Я уже решил, что затея провалилась, как вдруг…
– Вот! – её палец ткнул в экран. – Вот он! Этот!
Мы с Софией одновременно подались вперёд. На экране был мужчина с жёсткими, властными чертами лица и пронзительным взглядом холодных глаз. Подпись под фотографией гласила: «Павел Игнатьевич Стальский, член ЦК КПСС, 1957–1965 гг. ».
Мы покинули дачу Анны Павловны поздно вечером, когда зимние сумерки уже плотно окутали Зеленогорск. Всю дорогу до станции молчали, каждый переваривая услышанное. Лишь в валком тепле электрички София нарушила тишину:
– Нам нужно ещё раз встретиться и всё обсудить. У меня, в городе. Через несколько дней. В среду, например.
Мы с Гришей переглянулись и одновременно кивнули.
– Запишите адрес.
***
Дым из паровозной трубы – словно выдох неведомого чудища – расползался по лесу, цепляясь за косматые еловые лапы. Глушь, в которой и леший дорогу спросит. Верстах в двадцати от основной сибирской магистрали, под Иркутском, на прогалине, где, видать, лесорубы когда-то балаганы ставили, замер товарняк в три теплушки. Откуда взялся, куда путь держит – тайна. Лишь чугунные, скрипучие колёса с потемневшими от смазки ободами, да пар, да едва уловимый запах машинного масла выдавали в нём жизнь, а не призрачное видение.
Солнце, плоское, как медный пятак, катилось к горизонту, отбрасывая от сосен-великанов косые, вытянувшиеся тени. Воздух – густой, смолистый, пахнущий хвоей и прелой листвой. Тишина. Только дятел отбивал где-то свою дробь да ветер шептался в вершинах.
Из теплушек, точно жуки из рассохшихся щелей, стали выбираться люди – десяток бойцов. Одежда – кто во что горазд: гимнастёрки, рваные шинели, галифе, картузы да фуражки без знаков различия. Но во всём – в выправке, в цепком, изучающем взгляде – угадывался человек военный. Лица обветренные, суровые; улыбка, если и появлялась, походила скорее на волчий оскал.
Старший, Ерофей Петрович Белов, коренастый мужик с усами щёточкой, спрыгнул на землю, огляделся. Шинель на нём добротная, сапоги яловые, на кожаном ремне – кобура. Сразу видно: не из последних.
Достал кисет, скрутил цигарку. Табак – едкий самосад, другого не водилось. Дым сизой струйкой поплыл кверху, смешиваясь с паром от локомотива.
– Ну, полно лясы точить, – прервал он негромкий говор. – Васильев, командуй разгрузкой. Да смотри, чтоб целёхоньки были. Понятно?
– Так точно, Ерофей Петрович! – откликнулись вразнобой.
– Григорьев! – позвал Белов. – Пройдись-ка по округе. Чтоб ни одна душа… Ежели что – действуй ножом.
– Понял, товарищ Белов, – козырнул молодой красноармеец и тенью растворился в лесу.
Васильев, жилистый парень с веснушками на носу, и Петренко, детина с ручищами-кувалдами, подскочили к вагону. Загремели засовы, со скрипом отъехали тяжёлые двери. Изнутри пахнуло затхлостью.
– Ого-го! – присвистнул Васильев, заглядывая в полумрак. – Ящички-то! Цельный вагон!
– Не зевай, Васильев, – рявкнул Ерофей Петрович. – Не на ярмарке. Работайте!
Из вагона начали вытаскивать ящики. Деревянные, окованные железом, – мертвецкой, каменной тяжести. На каждом чёрной краской выведено: «Груз Особой Важности. Вскрытию не подлежит». Двое едва справлялись с одним. Кряхтели, пыхтели, пот катился градом.
– Эх, и тяжесть! – просипел Петренко, о́хая, ставя ящик на землю. Тот глухо стукнул, подтверждая вес содержимого.
– Осторожнее с добром-то! – прикрикнул Ерофей Петрович, не сводя с них глаз. – Не дрова везём! Беречь как зеницу ока!
Ящики один за другим вырастали на прогалине в угловатую, молчаливую гору. Белов огляделся: солнце почти скрылось, тени сосен вытянулись, точно когтистые лапы хищников. В лесу зашумел ветер, тревожный и настойчивый.
Паровоз с опустевшими вагонами дрогнул и, пыхнув на прощание, медленно тронулся с места, растворяясь среди деревьев. На поляне воцарилась тишина.
Ерофей Петрович оглядел проделанную работу. Вроде ладно. Только вот подвод всё нет. Задержались, что ли? И Григорьев куда-то запропастился.
– Послать бы гонца, Ерофей Петрович, – предложил боец по прозвищу Мохнач, подходя ближе. – Узнать, чего там.
– Послать-то можно, да кого? – Белов потёр подбородок, вглядываясь в темнеющий лес. – Все при деле. Да и ночь на носу. В лесу темнеет – как в погребе. Заплутает гонец.
– Я могу, – шагнул вперёд Васильев. – Я дорогу найду. Не впервой по лесам шастать.
Ерофей Петрович смерил его взглядом. Парень молодой, горячий, но смелый. Пожалуй, сдюжит.
– Ладно, Васильев, – решил командир. – Ступай. Да смотри, не заблудись. И живо назад. А мы тут обождём.
Васильев кивнул, подхватил винтовку, перекинул через плечо и шагнул в лесную чащу. Белов проводил его взглядом. Сердце неприятно ёкнуло. Не к добру эта задержка. Ох, не к добру…
Темнело стремительно. Лес ожил ночными звуками: ухнул филин, заскрипели сосны.
Люди разожгли костёр. Затрещал валежник, взметнулось пламя, озаряя поляну трепещущим красноватым светом. Уселись вокруг, достали немудрёную снедь: хлеб, сало, лук. Жевали молча, усталые и голодные.
– Долго ещё ждать-то? – спросил Петренко, широко зевая.
– Скоро будут, – ответил Ерофей Петрович, не отрывая взгляда от огня. – Не впервой. Революция – это тебе не сало жевать да кипятком запивать. Тут терпение надобно.
Вдруг неподалёку отчётливо хрустнула ветка. Все как по команде замерли. Белов выхватил наган, вглядываясь в темноту. Тишина звенела в ушах.
– Свои! – раздался шёпот, и из кустов, тяжело дыша, вывалился Григорьев.
– Напугал, чёрт! – Ерофей Петрович сунул наган обратно в кобуру. – Ну, чего там?
– Товарищ командир, вёрст за пять отсюда – разъезд. Там патруль, человек шесть. Но в нашу сторону не суются. Васильев сейчас подводы приведёт. Встретил их.
Вскоре из-за деревьев и впрямь вынырнула вереница подвод. Возницы – мужики в армяках, с лицами серыми, как земля, – остановились в десяти шагах, не решаясь подъехать ближе. Лошади фыркали, переступали с ноги на ногу, и пар от их ноздрей белыми клубами поднимался в стылом воздухе.
– Чего стали? – рявкнул Белов. – Аль языки проглотили?
– Товарищ начальник… – замялся седой мужик, сжимая вожжи. – Мы это… мы как велено. За солью приехали.
– Солью? – Белов усмехнулся, счищая сапогом ком грязи. – Ну да, соль. Да сахар напополам с порохом. Живо грузиться, пока белые не пронюхали!
Мужики переглянулись, но спорить не посмели. Щёлкнув вожжами, подкатили подводы. Заскрипели колёса, захрапели лошади, чуя предстоящую работу.
Споро раскидали сено, готовя место. По испуганным взглядам возниц было ясно – не по своей воле они здесь.
Красноармейцы принялись таскать ящики. Укладывали бережно, перестилая соломой. Петренко, красный от натуги, зычно командовал:
– Да не так, раззявы! Вот сюда, в угол! И верёвками крепче вяжите!
Ерофей Петрович наблюдал, нервно покусывая ус. Время поджимало.
– Шевелись, ребята! – прикрикнул он. – До рассвета на месте быть надо!
Васильев, пыхтя, волок очередной ящик. Поскользнулся на влажной траве, едва не выронив груз.
– Твою мать! – выдохнул он сквозь зубы.
– Аккуратнее! – прошипел Белов. – Хоть один повредите – с нас головы снимут!
Один из деревенских, бородатый старик в драной шапке, набрался смелости:
– Что-то тяжеловато для соли-то, начальник?
Белов смерил его тяжёлым взглядом.
– Меньше знаешь – крепче спишь, отец. Вози, что велено, и помалкивай.
Старик испуганно закивал и попятился. Погрузка продолжалась. Ящики громоздились на телегах, опасно кренясь. Бойцы обвязывали их верёвками, пробуя узлы на крепость. Наконец последний ящик, укрытый сеном, занял своё место.
– Готово, товарищ Белов! – доложил Петренко, утирая пот со лба.
Ерофей Петрович окинул взглядом караван и кивнул:
– Добро.
Он задумчиво пригладил усы, глядя в темнеющий лес. Достал из кармана шинели потрёпанную карту, развернул, вглядываясь при свете костра в карандашные пометки.
– Теперь в путь. Мохнач, бери троих, пойдёте головным дозором. Васильев с Петренко – в хвост колонны. Остальные – по подводам. И помните: груз должен дойти любой ценой. И чтоб ни звука! Кто болтнёт – пулю в лоб.
***
Обоз тронулся. Лошади, чуя тяжесть, шли медленно, с натугой. Колёса поскрипывали, увязая в мягком мху. Ветви то и дело хлестали по лицам. Тьма сгустилась, плотная как дёготь. Лес обступил со всех сторон – чёрный, тревожный, дышащий. Пахло прелью и грибами – запах сырой, древний.
Ерофей Петрович шагал рядом с последней подводой, вглядываясь в едва различимую тропу. Голову ломило от напряжения: не сбиться бы, не заплутать в этой чёртовой глухомани.
– Тише! – вдруг прошипел из темноты Мохнач, вскидывая руку.
Обоз замер. Люди затаили дыхание. Где-то впереди треснула ветка. Потом ещё одна. Ухнула и смолкла сова. Красноармейцы крепче сжали винтовки, кто-то осторожно взвёл курок. Мужики на подводах вжали головы в плечи.
Минута тянулась вечность. Наконец Мохнач махнул рукой:
– Зверь какой-то. Идём.
Возница на головной телеге чмокнул, прошептал: «Пошла, залётная! » – и дёрнул вожжи. Лошадь фыркнула, скрипнула упряжь, и обоз снова двинулся вперёд.
С веток капало – холодные капли то и дело затекали за шиворот. Ерофей Петрович поднял воротник шинели.
Григорьев бесшумно поравнялся с командиром.
– Разрешите обратиться, товарищ Белов, – прошептал он, едва шевеля губами.
– Ну? – буркнул Ерофей Петрович.
– А что в ящиках-то?
Белов покосился на парня, и тому показалось, что он видит его взгляд даже в полной темноте.
– Это не твоё дело, – процедил он. – Приказано доставить – доставим. Понял?
– Так ведь… – замялся Григорьев, кивнув в сторону подвод. – Говорят, на этой дороге банда шалит. Ежели нарвёмся…
– Страшно? – усмехнулся Белов. – Так вот и бойся втихомолку, а языком не мели. Пуля – дура, но разбирает, кто болтун, а кто молчун. Молчуны дольше живут.
Григорьев сглотнул.
– Да это я понимаю… Просто, если что случится, хоть знать бы, за что головы кладём.
Ерофей Петрович приостановился, так что молодой боец едва не налетел на него в темноте. Оглянулся на едва различимый в сумраке караван и совсем тихо, почти вкрадчиво, сказал:
– Слыхал про Бакинские промыслы? Там нефть качают. А здесь, в тайге, другая нефть. Живая. Кровь революции. Понял? Нет? И не надо. Иди на свой пост. Глаза держи открытыми. Ухо востро.
Григорьев молча козырнул и отступил в тень. А Белов достал кисет, но закуривать не решился – огонёк в ночи виден далеко. Сунул щепотку табака за губу и стал жевать горький лист.
Продвигались медленно. Лошади устали, выбивались из сил. Дорога становилась всё хуже – колеи, ухабы, вывороченные корни, торчащие из земли, как пальцы лешего. Мужики на подводах горбились серыми тенями, красноармейцы на взводе рыскали стволами по сторонам.
В тайге даже ночью не утихала жизнь. То филин заухает, то зверь пробежит, ломая валежник. Однажды над лесом прокатился волчий вой – близко, тоскливо. Лошади заржали, запрядали ушами. Пришлось останавливаться, успокаивать.
– Ерофей Петрович, – подошёл Петренко. – Люди устали. Может, привал?
– Какой привал? – прохрипел Белов. – До рассвета надо быть у Байкала. А это ещё полпути. Нет, идём.
Петренко вздохнул и вернулся к своей подводе. Обоз полз дальше. Тайга обступала, душила темнотой. Даже звёзд не видать – кроны сплелись над головой плотным пологом.
Вдруг головная подвода встала. За ней, как костяшки домино, замерли остальные. Ерофей Петрович, мысленно выругавшись, бросился вперёд.
– Что стряслось? – прошипел он, подбегая к Мохначу.
– Дорогу завалило, мать-перемать, – указал тот рукой.
И верно: поперёк тропы лежала огромная сосна. Ни проехать, ни объехать – по сторонам такой частый лес, что и пешему не продраться.
– Бурей повалило? – спросил Белов, осматривая преграду.
– Не похоже, – качнул головой Мохнач. – Спил свежий. Вон, смолой пахнет.
Ерофей Петрович наклонился – и точно, белёсая древесина светилась в темноте. Внутри всё похолодело.
– Засада?
Мохнач пожал плечами.
– Может. А может, мужики с деревни на дрова лесину свалили, да вывезти не сподобились. Или «зелёные» балуют.
Белов огляделся, вслушиваясь в ночь. Тихо. Только ветер в вершинах да капель. Медлить нельзя.
– Оттаскиваем, – скомандовал он. – Васильев, Петренко, Григорьев – все сюда! И мужиков с подвод снимите. Живо!
Собрались быстро, облепили сосну как муравьи. Ствол тяжёлый, смолистый, с острыми сучьями. Ерофей Петрович скинул шинель, закатал рукава.
–Насчёт «три»! – скомандовал он. – Раз, два… взяли!
Дружно крякнули, навалились. Жилы вздулись на шеях, лица побагровели. Сосна дрогнула, но не сдвинулась.
– Ещё раз! – прохрипел Белов. – Взяли!
Снова удар плечами, утробный стон, упирающиеся в скользкий мох сапоги. Пот заливал глаза, а проклятая сосна – хоть бы на вершок.
– Перерубить нужно, – предложил Петренко, тяжело дыша.
– Нельзя, – отрезал Белов. – Шум на весь лес. Если кто рядом – сразу себя обнаружим.
Люди тревожно переглядывались. Застряли.
– Топор есть у кого? – спросил вдруг Белов. – Сучья обрубим, легче станет.
Топор нашёлся у одного из возниц. Тихо, стараясь не греметь, обрубили самые крупные ветви. Снова взялись за ствол – всем миром, матерясь шёпотом.
И сосна поддалась. Медленно, неохотно поползла в сторону, царапая землю и оставляя глубокую борозду. Лица исказились от натуги, рубахи прилипли к взмокшим спинам. Ерофей Петрович, упираясь плечом в смолистую кору, думал лишь об одном: не привлечь бы внимания.



