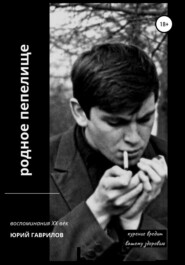скачать книгу бесплатно
Останавливали два обстоятельства – постоянная нехватка средств и здравое соображение, что злоумышленники выковыряют мою гордую надпись, и она пойдет на чужие галоши.
Комиссионка («Берегись автомобиля») и «Цветы» в трёхэтажном квадратного плана доме, коими по повелению Павла I замыкали московские бульвары и которые служили в конце XVIII – начале ХIХ века постоялыми дворами, тоже иногда мною посещались – там было шикарно и непонятно.
На углу Рыбникова переулка когда-то работал крошечный кинотеатр «Хроника» (до того – «Гранд-Электро», «Фантомас», «Искра»); но одной хроникой сыт не будешь: «Мост Ватерлоо», «Леди Гамильтон», «Большой вальс» и «Серенада Солнечной долины» (детям до 16 лет вход воспрещен).
Подвыпившая билетерша мирволила именно нам – малышне военных лет года рождения, и мы даже сидели – на приставных стульях.
Потом здесь был магазин авторучек; через переулок непонятное учреждение: межбиблиотечный коллектор.
Зато на нечетной – табакерка, расписанная под Хохлому.
Незабываемое благоухание желтого абхазского табака, который не смогли извести ни меньшевики, ни большевики (точно такая же – на углу Последнего переулка и Сретенки).
Великолепные, 5 руб. 50 копеек папиросы (про такие говорили: «метр курим, два – бросаем») в коробках твердого, как жесть, картона: «Московские», «Палехский баян» «Посольские», «Гвардейские» «Герцеговина Флор» (сам Сталин курил, ломал и набивал трубку табаком балканской мешки).
Я пристрастился к ним после армии, затягиваться надо было носом, чтобы прочувствовать благородное благовоние.
Потом они стали исчезать, марка за маркой, дольше других продержались «Герцеговина Флор» и «Фестивальные», самой скучной мешки. Самыми сложными по вкусу и аромату были «Дюбек» и «Московские». От них фабрика «Дукат» отказалась в первую очередь – так в первую очередь всегда погибает всё самое изысканное.
Самые популярные папиросы: «Казбек» по два с полтиной, «Беломорканал» (2 руб. 20 коп.), «Север» (1 руб. 40 коп., с 1945 года – «Норд», с 1948, в результате борьбы с низкопоклонством перед Западом – «Север»); брали также «Любительские» и «Волну».
Такая же судьба, как папиросы «Норд», постигла знаменитое кафе «Норд» на Невском проспекте; французские булки стали городскими, сыр «Камамбер» превратился в «Русский камамбер».
Более всего пострадала кулинария: пропали из обихода круассаны, профитроли, консоме, прованское масло, яйца пашот и многое другое, как несоответствующие эпохе, исчезли как названия, так и сущности.
Но английские замки и английские булавки таковыми и остались.
Курильщиков сигарет было значительно меньше, чем приверженцев папирос. Сигареты, в отличие от круглых папирос, были еще и овальными.
Дорогие сигареты – «Тройка», «Москва», «Друг» (с собачкой на этикетке) мало кто покупал, как и «Ментоловые». Ходовыми были «Дукат» (короткие, под мундштук, обычной длины и в маленьких пачках по десять штук по 70 копеек), «Прима», «Астра» (1 руб. 40 коп.), «Памир» – очень крепкие и вонючие, прозванные в народе «горный воздух» – по рублю.
Сигареты с фильтром – «Краснопресненские» и «Автозаводские» появятся во второй половине пятидесятых и станут модными среди молодёжи.
Табак, в отличие от других товаров, делился не просто на сорта: высший, первый, второй, а внутри высшего сорта на три класса (потом – номера), а первый и второй сорт – на группы «А» и «Б»
«Герцеговина Флор», «Московские», «Анилин» (в честь знаменитого жеребца, на котором жокей Николай Насибов единственный в мире выиграл три Приза Европы) – папиросы высшего сорта первого класса (№ 1), «Дюбек», «Северная Пальмира» со стрелкой Васильевского острова и ростральными колоннами на этикетке – высшего сорта второго класс (№ 2). «Любительские» (их курил мой отец) и «Казбек» (художник Роберт Грабе еще до войны нарисовал этикетку, которая понравилась Сталину: черный силуэт всадника в бурке на фоне Эльбруса. Но Сталин приказал назвать папиросы «Казбек», и Эльбрус по воле вождя притворился Казбеком) – высшего сорта третьего класса (№ 3).
«Беломор», «Лайнер», «Шахтёрские» – первого сорта группы «А».
«Север» – очень ходовая марка первого сорта группы «Б» для мужиков попроще.
В папиросах второго сорта группы «А» «Прибой» по рубль двадцать табак был грубый и крепкий, а группы «Б» – был смешан с черешками, щепками и прочей дрянью – «Звездочка» и «Ракета» – «для шкета».
Впрочем, такая система сортности касалась только папирос, у сигарет, трубочных и курительных табаков была своя для каждого вида продукции.
Курить я начал позже, в начальной школе, но табак занимал меня чрезвычайно.
Карты игральные и карты игральные атласные; карты пасьянсные, по размеру вдвое меньше игральных по две полных колоды в одной коробочке, русская колода – 36 карт, футляры для карт.
Мраморные пепельницы, при виде которых почему-то вспоминалось об умышленных убийствах и проломленных черепах и пепельницы-ракушки, пепельницы из яшмы, пепельницы хрустальные, металлические спичечницы, папиросницы из карельской березы, табакерки Палех и Холуй, брелоки для ключей. Ключей у меня не было, а вот брелок был.
Курительные трубки – благородные изящные прямые, кривые, с головой Мефистофеля, льва, обезьяны, из корня вереска, груши и вишни, совсем короткие носогрейки, как у соседа дяди Феди.
«Гусарики» – шкатулки под трубки, латунные фильтры для трубок, ершики для трубок; мундштуки костяные, деревянные, из рога, из янтаря, длинные дамские с золотыми (фальшак) колечками.
Табаки медовые «Золотое руно» и «Капитанский» (абхазский и крымский табак пропитывали соусом из меда, патоки, сахара и отвара сухих груш), а то и просто «Курительный №7» и кошмарный «Дорожный», который курил сосед Федор Яковлевич, табаки папиросные и сигаретные: «Любительский», «Ароматный», «Дюбек» (от которого сам черт убег).
Махорка-крупка курительная моршанская – «Крепкая», «Средняя» и «Легкая» (не верьте!) – 45 копеек за пачку из невообразимой грязно-желто-серой плотной бумаги, «Вергун» высшего качества за 55 копеек для утонченных натур, и нежинский корешок – тот, кто курил, никогда не забудет.
Машинка для набивки гильз, коробки гильз под номерами, книжечки папиросной бумаги, спички сувенирные.
И – воплощение вещной мечты: зажигалки, сиявшие никелем, зажигалки настольные, кремни для зажигалок, бензин для зажигалок в 70 граммовых мерзавчиках, на этикетках крупными красными буквами – «Огнеопасно», с сургучной пробкой.
Табак нюхательный – «Мятный», махорка нюхательная – «Крепкая», «Любительская» и под номерами; сигары, изготовленные почему-то в городе Погар Брянской губернии – две штуки в целлофане внутри темно-синей коробочки аж 27 рублей 20 копеек (с ума сойти!).
Не могу удержаться от отступления исторического: в 1910 году в заштатный город Брянской губернии Погар немец Шепфер переводит производство сигар из соседнего Почепа.
До присоединения Левобережной Украины Погар (Радощь, Радогощь, Радогост) входил в состав Великого княжества Литовского, Речи Посполитой, украинского Гетманства; в 1623 году король Сигизмунд даровал городу магдебургские вольности. Будущий поселок городского типа стал Европой, но недолго музыка играла, недолго фраер танцевал…
Вернула Россия своё исконное.
Про магдебургские вольности пришлось забыть.
В 1913 году немец Тобиас Рутенберг начинает переводить в Погар (мёдом, что ли, там немцам намазано?) весьма серьёзное табачное производство – «Рижскую сигарную фабрику». Россия производила в год из привозного сырья 150 миллионов сигар в год, 90% шли на экспорт под общим названием «русский табак».
Мировая война заставила Рутенберга в 1915 полностью перевести производство в Погар, ставший столицей большой русской сигары.
Во время Ялтинской конференции с фронта был отозван лучший торседор (крутильщик сигар) Погарской фабрики Иван Алексеев, дабы крутить сигары для известного любителя ручной скрутки, Уинстона Черчилля.
Согласно апокрифу, Черчилль отозвался о Погаре одобрительно: «Недурно…»
Погарские сигары курили ныне разжалованные классики советской литературы – Илья Эренбург и Александр Чаковский, махровые графоманы и приспособленцы.
Но 27 рублей 20 копеек! Хотя бы и за «Погар».
Куривали и мы погарские сигары.
«Порт», пять штук – 5 рублей 50 копеек. Забористая, скажу я вам, вещь. Позволить себе курить «Порт» мог только человек состоятельный и богатырского здоровья. А то это могло кончиться, как поведал мне один старый куряка, вывихом челюсти в припадке необоримого кашля.
Недаром работникам Погарской фабрики, единственным в Советском Союзе делали бесплатный маникюр. Шутка ли – в Европе вручную крутят сигары только в Испании и в Погаре.
Портсигары серебряные дорогие и дешёвые – нержавеющей стали с рельефными тремя богатырями, русалками, московскими и питерскими видами, с крейсером «Аврора», с красноармейской символикой, пропеллерами и якорями; портсигары из березового капа немыслимой красоты и изящества.
Кисеты, расшитые бисером, элегантные подставки под трубки – слабеет, расточается моя память, что-то еще помню, но, наверное, больше забыл.
Разумеется, я не буду так подробно описывать ассортимент всех сретенских магазинов, но придется потерпеть.
В писчебумажном, что на той же стороне улицы, наискосок от филипповской булочной по соседству с крохотной одноэтажной пристройкой «Фотостудия» с его единственным хромым фотохудожником, меня почему-то волновала всякая дребедень: палочки сургуча (купил-таки и к ужасу всего двора опечатал все сараи при помощи шпагата и пятака; жив остался только потому, что обыватели настолько испугались, что не решились дознаться, кто шутник).
Я понял силу сургуча с изображением государственного герба, но почти никогда больше этим не злоупотреблял.
Или тушь, настоящая китайская (помните, с кем мы в то время были братья навек, Сталин и Мао слушали нас). На флаконе было написано, что она не мерзнет при минус каких-то градусах.
Чрезвычайно меня занимало, отчего же она не мерзнет. Впрочем, с тушью вышла совсем скверная история.
Стоила она дорого (в моих масштабах) и добрался я до нее, только будучи учеником 3 класса, но проверил: таки не мерзнет.
Перекидные календари, настольные никелированные календари, в которые надо было вставлять нарезанные листочки, готовальни (смерть моя). Перья – десятки номеров, в первом классе на уроках чистописания рекомендовалось пользоваться пером №86.
Умолкаю.
Хотя не могу обойти молчанием дыроколы – видимо, побочное детище танкостроителей, «шило делосшивательное» – один из весьма распространенных характерных инструментов эпохи, пресс переплетный.
А имперский письменный мраморный прибор с пограничником на лошади! С пресс-папье, с четырёхгранным мраморным стаканом для ручек и карандашей. Стоит у меня сейчас на компьютерном столе, мой внук Миша одобрительно сказал про эту выразительную композицию: «Настоящая сталинская чернильница…»
Вызывали неподдельный интерес наборы карандашей цветных «Искусство», карандаши «Живопись», карандаши и наборы «Конструктор», карандаши «Школьные» (хуже некуда) и сверхдефицитный чешский «Koh-i-noor».
Карандаши – одна из моих многочисленных платонических слабостей.
Мал золотник – да дорог, незамысловатая казалось бы вещь, а замечательная.
Московские фабрики «Сакко и Ванцетти» и «Имени Красина» делали очень плохие карандаши – и цветные и «простые». Всё в них было плохо: древесина, грифель, надпечатка. Из кедра – тарная дощечка, а карандаши – из осины и сосны, твердый грифель рвал бумагу, цвета были блёклые, невыразительные.
Единственным высококачественным изделием фабрики имени двух американских анархистов был, бесспорно, чернильный карандаш. Номер, написанный в очереди на ладони, с трудом поддавался даже пемзе. А этот номер мог вызвать множество щекотливых вопросов моей бдительной мамы.
Но тлетворное влияние Запада уже коснулось наших суровых душ: среди трофейного барахла попадались и «Faber-Саstell»; жестяные коробочки «Alligator» – набор по 36 и 48 цветных карандашей.
Кто хоть раз взял их в руки, тот пропал навсегда.
До сих пор не способен удержаться – и могу украсть понравившийся мне карандаш.
В доме №9 по Сретенке уживалось три (!) книжных магазина, а на углу Сретенки и Колокольникова помещался детский сад, в который мама отвела нас с сестрой осенью 50-го года.
Когда детский сад перевели в другое помещение, на углу Сретенки и Колокольникова открылось ателье по пошиву верхнего платья; нынче в тех же залах расположилось гораздо более полезное и нужное населению учреждение – коммерческий банк «Ренессанс», известный своим хамским отношением к клиентам.
Букинистический магазин вызывал у меня уважение возрастом выложенных в витринах книг (встречалось начало XVIII века).
Там я позже купил своего первого Маркса.
Не Мардохея (Карла), а замечательного русского издателя Адольфа Федоровича Маркса, ухитрившегося в малограмотной России издавать иллюстрированный журнал «Нива» тиражом в двести пятьдесят тысяч экземпляров. А к нему, в качестве бесплатного приложения, полные собрания русских писателей – я приобрел полное собрание И. А. Гончарова в любительском переплете с корешками тисненой кожи, в очень хорошем состоянии и за смешные деньги. За Гончаровым последовали М. Ю. Лермонтов, А. Н. Майков, Ф. М. Достоевский.
Там я много позже облизывался на «Сентенции и замечания мадам Курдюковой за границей, дан ле?этранже» того самого «Ишки Мятлева», стихи которого упоминал Лермонтов – ныне малограмотные люди на телевидении дружно приписывают их И. С. Тургеневу: «Как хороши, как свежи были розы!», а те, что пограмотнее – Северянину.
Но! Пятьдесят рублей!
Здесь были скрипучие рассохшиеся полы, пахло книжной пылью, затхлостью, немного плесенью, чердаком, кожей переплетов; магазин никогда не пустовал, но по утрам посетители были редки, и меня никто не отгонял от витрин хамским вопросом: «Мальчик, тебе что надо?»
Однажды старый еврей-букинист с очками, поднятыми на лоб, строго сказал уборщице: «Оставьте его. Вы что, не видите, это же наш будущий покупатель. Вы только поглядите – он просто влюбился в нашу лоцию…»
Меня почему-то влекли книги, заведомо мне не нужные – та самая лоция Каспийского моря XVIII века, огромный том в бархатном переплете с медными уголками и застежками.
Магазин жив до сих пор в доме-новоделе, но вообще от книжной торговли в Москве мало что осталось, biblio-libelli культура умирает, и я – вместе с ней, пришло мое время.
Тот магазин, что находился поближе к Колокольникову, был достаточно безликим, но потом стал «Спортивной книгой». В 60-е годы я приезжал сюда с записочками от Михаила Евсеевича Фрумкина получать вожделенный дефицит. Именно в этих стенах мне вручали завернутые тома, и по молчаливому согласию сторон я разворачивал их в соседнем магазине «Изопродукции», дабы не привлекать внимания желающих стать обладателями сборников Бабеля, Зощенко, Платонова, Вознесенского.
Сейчас это покажется странным, но изрядное число книг становилось жесточайшим дефицитом, и эти книги нужно было добывать окольными путями или переплачивать в 10-15 раз.
А вот «Изопродукция» – излюбленное мною торжище, здесь покупателей было всегда мало.
Торговый зал был небольшой: открытки слева, плакаты справа и против двери – касса и книги по искусству.
Справа царил сатиры смелый властелин и по совместительству – друг свободы, Борис Ефимов, родной брат между делом расстрелянного Сталиным Михаила Кольцова.
Беспощадный критик пороков буржуазного общества, как он умел припечатать поджигателей войны, изобличить предателей, ренегатов, оппортунистов, показать гнилую сущность шпионов и наемных убийц.
Не могу забыть (это сильнее меня) его шедевры: плаха, густо заляпанная кровью людей доброй воли, и около нее два отвратительных ката с засученными рукавами, в галифе – «и струйкой липкой и опасной стекали в сапоги лампасы».
Для политически неразвитых и вообще недалеких людей имелась надпись: «Палачи Европы. Каудильо Франко и ренегат Тито».
Плакаты и портреты Сталина и других вождей стоили дешево, и меня так и подмывало притащить домой Тито или стиляг кисти Ефимова, но я не был уверен, что мама одобрит мой порыв.
Не менее чем разоблачение подлеца Тито, меня привлекала серия замечательных плакатов о необходимости неусыпной бдительности: «Не болтай!», «Бди в оба!», « Будь начеку!», «Враг подслушивает» и, наконец – «Враг не дремлет!»
Последнее утверждение рождало законный вопрос: а мы? Неужто, дремлем?
Я пытался совсем не спать, но у меня не получалось, и я ни одного врага не разоблачил.
Любимый поэт моего детства вместе с художником Абрамовым бил в десятку и все в рифму.
А вот такое лирическое стихотворение с рисунками Спасской башни и ели:
Новый год. Над мирным краем
Бьют часы двенадцать раз.
Новый год в Кремле встречая,
Сталин думает о нас.
………………………….
За Уралом, на Байкале
Ты больной лежишь в избе.
Ты не бойся – знает Сталин,
Сталин помнит о тебе.
Получалось, что если Сталин помнит о мальчике, который лежит где-то на Байкале, то уж обо мне-то, пребывающем в двух шагах от Лубянки, он знает наверняка. (С другой стороны был ясен и намек: ты хоть в лисью нору, хоть и за Байкалом забейся, от него все равно не спрячешься).
А рядом – призыв «держать в смирительной рубашке всех поджигателей войны!» – и вот они, голубчики, повязаны все как один художником Абрамовым.
Популярнейший сюжет на слова А. Жарова (песня – музыка Вано Мурадели) про врага, который посмел «сунуть рыло в наш советский огород».
Существовало, по меньшей мере, три модификации плаката: сначала рыло было косоглазым и в японской фуражке (собственно Жаров писал именно о самураях), потом это был Гитлер – отвратительная помесь свиньи и гиены, потом – поджигатель войны с козлиной бородкой дяди Сэма.