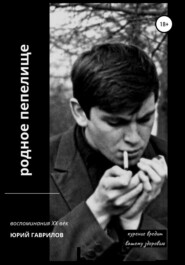скачать книгу бесплатно
Сухаревская башня колдуна Брюса, сподвижника Петра, знаменитый на всю страну блошиный рынок. И просто торговый район на Сухаревке, описанный у В. А. Гиляровского, М. И. Пыляева, Н. М. Ежова, П. В. Сытина и других историков и знатоков Москвы; образное выражение «духовная Сухаревка» – символ духовной нищеты, принципа «всё на продажу!» – это отсюда.
На одном углу Большого Сухаревского и Сретенки – магазин «Тюль», известный всей Москве, на другом магазин «Ткани» (бывший Мишина).
Вы спросите, что общего может быть у мальчика с двумя ножиками, фонарем и рогаткой с тканями и, в частности, с тюлем?
Всю жизнь относившийся к одежде исключительно как к тому, чем прикрывают срам, носивший ковбойку, кепку и шаровары из «чертовой» кожи, мальчик в магазине «Тюль»?
В первый класс, впрочем, я пошел в черной суконной гимнастерке, Бог весть из чего перешитой мне бабой Маней. Мне она казалось щегольской, некоторые считали ее несколько кургузой – это были завистники; мальчик, одетый по понятиям московских уличных пацанов, ловил краем уха неизвестные ему слова и любил узнавать их смысл, за которым стояла какая-то новая грань мира.
Под поверхностью каждого слова шевелится бездонная мгла…
Шевиот, бостон, коверкот, креп-жоржет, креп-сатин, фай, крепдешин.
Слова, которые невозможно разъединить: веселенький ситчик, хорошенький тюль, натуральный шелк (китайский шелк), нарядный креп-жоржет.
Из взрослых разговоров я усвоил, что человек в драповом пальто и человек в бобрике – два разных человека, а человек в ратиновом пальто – это существо высшего порядка.
Ах, шотландский ратин, темно-серый, рытый, в косой рубчик – была у меня с ним забавная история в зрелые годы.
Этикет относительно обновы (событие!): «Как вам идет! Вы просто помолодели! А как с этой юбкой хорошо! И с фильдеперсовыми чулочками!»
Капроновые чулки со швом появятся в средине 50-х годов.
Ткань в отрезе щупали (с начесом?), смотрели на свет и даже нюхали. Приговор, как правило, был положительным: «доброе сукнецо, чудесная байка».
Ах, байковые портянки в цветочек в Красноярске-26!
– Но какой коверкот в сталинской Москве? – скажите вы – и ошибетесь.
Ленд-лиз – это не только самолеты, паровозы и алюминий, это – суконные ткани высшего качества из самой Англии.
Именно про такую мануфактуру в гоголевской «Женитьбе» Балтазар Балтазарович Жевакин говаривал: «Суконце-то ведь аглицкое». Двадцать лет носил Жевакин мундир, перелицевал, еще десять лет носил – «до сих пор почти что новый». Это не реклама, это – сущая правда.
Отец был любимцем начальства и сослуживцев. Где бы ни работал – счастливое свойство характера. Упаси Бог, он не был подхалимом, он просто вызывал всеобщую симпатию – харизма такая.
Так вот, он был любимцем главного редактора газеты «Красная Звезда» генерала Московского.
Я помню, как ошарашена была наша квартира, когда папу, не стоявшего на ногах, дотащил до дивана какой-то сержант, а за сержантом выстукивали особым начальственным образом сапоги натурального генерал-лейтенанта, который командирским голосом приговаривал: «Ну, вот ты и дома, Левушка. Вот и хорошо».
Дядя Федя и Александр Иванович, оба пьяные, застыли навытяжку и стояли, как два истукана, когда генерала и след простыл.
Вот отсюда и коверкот (символ достатка – коверкотовый макинтош, «Жора, подержи мой макинтош» – предисловие к драке), отсюда и шевиот.
У этих тканей был один недостаток – цена, от 400 до 600 рублей за метр!
Поэтому, прежде чем начать шить солидный двубортный костюм, отец несколько месяцев работал, как вол. Долго обсуждался приклад – тесьма, лилового оттенка шелк на подкладку, упаси Бог – саржа, пуговицы роговые – не пластмасса же. Портной, настоящий варшавский еврей (на самом деле – из Бобруйска, где только он их находил), первая примерка, вторая примерка. И торжественный выход нового костюма, шикарного, темно-серого в едва заметную темную и красную полоску, в свет, в «Театр оперетты».
Откуда в обязательном порядке приносились две программки – спектакля и толстая «Театральная Москва», которую я, как Чичиков, прочитывал от доски до доски, включая выходные данные: подписано в печать 14.12.1951 г., тираж 15000 экземпляров; початая коробочка конфет «Грильяж».
Я долго и терпеливо подбивал родителей купить театральный бинокль – тщетно!
Интерес к тюлю возник позже – лет в десять.
Магазин «Тюль» по большей части пустовал.
Не то чтобы в нем были пустые полки, нет – немногочисленные покупатели бродили между прилавками и стендами и покупали вяло.
Но вот легкое землетрясение пробегало по окрестностям: тюль дают!
Выстраивались жестокие очереди, которые можно было сравнить с тем, что творилось вокруг касс «Урана» во время триумфа «Бродяги».
В культовом фильме 1955 года «Дело Румянцева» сугубо положительный полковник милиции сетует, что его жена четыре дня стояла за тюлем, но купить так и не смогла.
Но мне-то что с того?
Все просто, мой читатель, в очередь можно было встать, не имея ни малейшего намерения и финансовой возможности покупать тюль.
Честно отстояв 3-4 часа, у двери магазина очередь можно было продать, т.е. твой номер, написанный на ладошке, переписывали на ладонь какой-нибудь тетки, а она платила обладателю номера за эту коммерцию червонец.
Теперь самым сложным было избавиться от навязчивого внимания более взрослых парней от «Урана» – стоять в очереди им было западло, а вот отнять деньги у маленького – делом чести.
Для того чтобы уйти, надо было, прижимаясь к стене, двигаться к хвосту очереди и, когда преследователь терял тебя из виду, пролезть между юбками и дать деру.
В конце Сретенки с четной стороны стоял Щербаковский[1 - А.С. Щербаков – первый секретарь МК ВКП(б), сменивший Хрущева перед войной и умерший в 1945 году, проходил как жертва (липовая) по «делу врачей».] универмаг (бывший магазин готового платья Миляева и Карташова), крыша которого, якобы, рухнула под тяжестью облепившей её толпы во время Всемирного фестиваля молодежи – лишь по счастливой случайности жертв не было.
Так эту историю рассказывали тогда, а сравнительно недавно эта версия была озвучена по телевидению.
Это не так – обрушилась крыша соседнего двухэтажного дома. На фестивальной фотографии виден и сам дом и его явно перегруженная зеваками кровля.
Очередь в Щербаковском универмаге за женскими наручными часами «Заря» или мужскими – «Победа» была самой дорогой – четвертак! Так ведь и часы «Победа» стоили 342 рубля!
Самой дешевой была очередь за яйцами – целковый, но это были два эскимо на палочке без шоколада – были и такие по 45 копеек (эскимо, глазированное шоколадом, стоило рубль десять).
Щербаковский универмаг был снесен по указанию Хрущева единственно из-за его личной неприязни к Александру Сергеевичу, шурину и собутыльнику самого А. А. Жданова и своему преемнику на посту главы московской партийной организации. Мстительный Хрущев отменил решение ЦК об установке памятника А. С. Щербакову на Сретенском бульваре. На месте закладного камня был воздвигнут монумент Н. К. Крупской, жене В. И. Ленина, неизвестно почему ставшей главным советским педагогом и запрещавшей в этом качестве изучение Л. Н. Толстого и Ф. М. Достоевского в школе, и распорядившейся изъять их книги из библиотек.
На нечетной стороне перед церковью Троицы в Листах, было построено небольшое одноэтажное деревянное здание, крашенное неприглядной коричневой заборной краской – «Кафе-мороженое» – мое первое кафе.
Сюда нас с Лидой водил, как правило, отец.
Я объедался разноцветными шариками мороженого: белое – пломбир, бежевое – крем-брюле, было и шоколадное, и лимонное, под ситро или, если повезет – под «Крем-соду», мороженое шло особенно хорошо.
Это было то золотое время, когда я думал: стану взрослым – буду питаться мороженым, сметаной и ванильными сухарями, а под носом носить связку сушеных белых грибов.
Примечательными на Сретенке были магазин «Меха. Головных уборы» (моя шапка из меха обезьяны – плод недолгой любви СССР с Патрисом Лумумбой, сноса этой ушанке не было); «Обувной» напротив «Урана», в который приезжали издалека (зимние чешские ботинки фирмы «ЦЕБО» на крючках – писк моды).
И конечно, «Рабочая одежда» на углу Даева переулка (родины великого футболиста, незабвенного Игоря Александровича Нетто, «Гуся», капитана московского «Спартака» и сборной страны, чемпиона Европы и Олимпийских игр, в несчастье своем – болезнь Альцгеймера, всеми забытого и брошенного, кроме брата Льва, вернувшегося с островов ГУЛАГа).
Именно в этом магазине после Всемирного фестиваля молодежи и студентов 1957 года в Москве прозвучал наш гордый ответ Чемберлену – рабочие штаны под джинсы с металлическими заклепками и кожаным лоскутом на заднице за 65 рублей.
Это были джинсы для бедных под псевдонимом «брюки рабочие»; ткань была жидковата против фирменной джинсы, как и нитки двойного шва, красные на темно-сером фоне – с претензией на щегольство, но никелированные заклепки держались, х/б неизвестной миру фабрики было прочным, а цена – бросовая!
«Вечерняя Москва» сообщала, что наши брюки для разнорабочих ничем не хуже штанов канадских лесорубов (так «Вечерка» изящно именовала джинсы), но, признаюсь, это было слишком сильное утверждение.
Вообще же магазинами одежды, обуви, мебели и посуды я по малолетству интересовался мало и любителем этих заведений так никогда и не стал.
Покупка одежды или обуви всегда была докукой: того, что хотелось (недолгий период в юности) – не было, все эти примерки, переговоры с продавцами, их прозрачные намеки на то, что есть нечто стоящее, но это «надо изыскать», деньги «сверху» – все это вызывало скуку, а иной раз и отвращение.
Новых вещей я не любил. К ним надо было привыкать, а в детстве – напряженно следить, чтобы не посадить пятно, упаси Бог, не порвать – вещи эпохи всеобщего дефицита давались нелегко, их берегли, ботинки чинили многократно, прежде чем отправить на помойку, то же относилось и к одежде. Всё должно было выслужить свой срок, а то и два.
В магазине «Рабочая одежда» я отоваривался много лет уже тогда, когда пришлось переехать на Ломоносовский проспект.
На Сретенке продовольственной выделялся «Гастроном» на нечетной стороне в конце улицы. Свежая ветчина, популярный (очень среднего качества) сыр «Советский», любительская колбаса, шоколадные конфеты – все это покупалось с получки и по праздникам (красная икра!).
В обычные дни – колбаса «Чайная» или «Отдельная», сыр колбасный, карамель «Клубника со сливками», леденцы «Барбарис», ирис «Ледокол» (лукавое название – молочные зубы эта конфета могла легко выдрать) и, конечно, тянучка «Коровка».
На Сретенке располагалась и одна из филипповских булочных.
Иван Иванович Филиппов, знаменитый московский булочник и хлебопек оставил по себе много легенд и баек.
В одной из саек Филиппова, посылавшихся курьерским поездом к царскому столу, обнаружился таракан; вызванный для распекания Филиппов таракана съел, нагло назвав его изюминой. Так появился филипповский хлеб с изюмом.
В. А. Гиляровский:
Вчера угас один из типов
Москве известных и знакомых:
Иван Иванович Филиппов.
И в безутешности оставил насекомых.
На самом деле, Филиппов оставил Москве несколько великолепных булочных, каждая из которых имела собственную пекарню.
Большевики, поелику сумели, ухудшили качество филипповского хлеба – не та мука, не то масло, но уничтожить его торговлю не смогли.
Французские (городские) булки по семьдесят копеек, ситники по рублю. Знаменитые «жаворонки», булочки в виде птичек с глазком-изюминкой – дань обычаю в Благовещенье выпускать на волю птиц («на волю птичку отпускаю при светлом празднике весны» – А. С. Пушкин).
Крендели, калачи, баранки, баранки-челночки, сушки простые, с маком, с солью; сухари простые, ванильные, с маком, с сахаром – намазал маслом – вот и пирожное; ватрушки, марципаны, калорийные булочки с темной лаковой верхней корочкой с изюмом и ореховой крошкой, хала с маком – еврейский мотив.
Сайка простая и сайка с изюмом, слойки, слойки с вареньем и кремом и отдельно – слойка «тещин язык», хлеб горчичный, бородинский заварной, рижский, батон нарезной, каравай, буханка – килограммовый кирпич по рубль двадцать, хлеб серый, ржаной, из сухарей которого баба Маня делала отличный квас…
Кексы и особо кекс «Весенний» – псевдоним кулича.
Но в нашем безбожном доме куличи пекла баба Маня: дореволюционные формы, дореволюционные рецепты, вощеная бумага – и дореволюционное качество: благоухающая плоть кулича, желтая, плотная, сладкая, с пряностями – весточка из иной жизни.
Но и на кекс «Весенний» охотников находилось немало.
Эклеры с заварным и шоколадным кремом, наполеон, картошка, корзиночки с грибками и ягодами, буше, безе, миндальное. Ореховые, полоски песочные с разноцветным кремом и ромовые бабы, пропитанные, впрочем, коньяком (до внезапной дружбы с Кубой – откуда у нас ром).
Хотя советский «Ром» изредка появлялся в фирменных магазинах «Российские вина», как и «Советское виски», но это была экзотика, которую мало кто видел, но я сподобился попробовать и то, и другое.
В филипповской булочной – всегда битком. В уголке между кассой и витриной женщины средних лет жадно и торопливо пожирали пирожные.
Я вспомнил об этих гражданочках, когда впервые увидел «Абсент» Дега – так же тоскливо и безнадежно…
Рядом магазин «Дары леса», впоследствии переименованный, как и ему подобные, в «Дары природы».
Витрины, тесно набитые красной боровой дичью: рябчики, перепелки, тетерева-косачи, тетерки, куропатки, глухари, зайцы. Мясо оленя, лося, изюбря, кабана, медвежатина, козлятина, конина, конская колбаса, копчености, перепелиные яйца, мёд сотовый.
Родители покупали в «Дарах» только орехи кедровые россыпью и в шишках, которые вываривали в ведре, они пристрастились к кедровым орехам на Урале.
Наша домашняя еда была уныла, скучна и убога. Это была классика городского зажиточного мещанства, когда мясом называли только говядину, свинина считалась признаком широты натуры, а о баранине и не слыхивали, даже шашлык некоторые предпочитают свиной, что, на мой взгляд, сродни половому извращению.
Курицу обязательно варили – и первое и второе, куриной бульон – только больному, а так его пичкали вермишелью, морковью да еще норовили пару картошек добавить – так сытнее.
Утка или гусь – только на новый год, майские и октябрьские – ну, что за скупердяйство.
Баба Маня пекла пироги, не скупясь – если положено в начинку класть сливочное масло, так уж никакого маргарина. И мука пшеничная – высшего сорта. Пироги с капустой, с мясом, рисом и яйцом, пироги с грибами и яйцом, кулебяки, открытые пироги с вареньем и повидлом, сдобы летом в деревне в качестве свежего хлеба.
Мы жили небогато, но могли себе позволить и пироги, и мандарины – не каждый день, конечно.
Отец был (увы!), в общем-то, безразличен к еде и охотно ел и говяжий картофельный суп «на косточке», и любимую свою картошку тушеную со свиным «рагу». Из чего уж готовили это рагу по-советски? И откуда эти повара брали столько костей, хрящей и жира?
Черный перец и лавровый лист – вот и все пряности пролетариата и обывателей московских переулков.
Из детского меню на меня смертную тоску нагоняли толокно, молочные супы, рыбий жир.
В книге «О вкусной и здоровой пище» я видел столько увлекательных и вовсе недорогих блюд – зеленый горошек или консервированная кукуруза.
Но горошек – только в салат, а консервы – вредно и дорого.
Рыба: треска, судак и навага жареная – и все!
А рыбы было навалом – и дешёвой, и красной, да и мороженая осетрина стоила недорого; раки, крабы (реклама на трамваях и знаменитый слоган: «Вам давно узнать пора бы, как вкусны и нежны крабы») – всё мимо…
Селедка и рижские шпроты по праздникам, бычки в томатном соусе летом в деревне к макаронам; с трудом втиснули салат из печени трески в меню складчины.
Держались своих замшелых гастрономических пристрастий, как староверы старопечатных книг.
Как только появились свои (неправедные) деньги (где-то в десять лет), я начал тайком расширять свой гастрономический опыт.
Зеленый горошек, конская колбаса, фисташки, утиные полотки копченые («Дары леса»), беляши и перемечи (у соседей-татар), вяленая хурма, чурчхела (Центральный рынок), чебуреки (их продавали рядом с рестораном «Узбекистан» на Неглинной) – всё, на что невозможно было склонить родителей – всё было вкуснее, чем дома.
Открытый бунт случился только в старшей школе, когда мама стала потихоньку пренебрегать обязательными обедами из трех блюд, предпочитая им пламенную профсоюзную работу и консервированный борщ из банки, и произошел в форме неумеренного потребления пикантных сыров.
Знающие люди говорят, что во Франции больше тысячи сортов сыра.
Но вот «Дорогобужского» сыра во Франции наверняка нет.
Теперь, когда мы отчасти допущены на праздник жизни, и одного «Рокфора» попробовали десятки сортов, я окончательно убедился: нет – ничего подобного «Дорогобужскому», а тем паче «Смоленскому» сыру французам произвести так и не удалось (а ведь были и в Дорогобуже, и в Смоленске)!