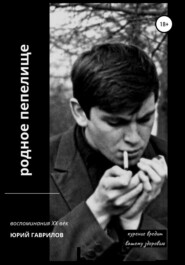скачать книгу бесплатно
Это они своей кровью выиграли в прах проигранную Сталиным и отцами-командирами священную войну.
Это они впроголодь, в невыносимой скученности, в затрапезности, в обносках сносили все немыслимые тяготы и лишения послевоенной поры и спасли империю в тот миг, когда в стране, где тележные оси всё ещё смазывали, как при Владимире Красном Солнышке, дегтем, 29 августа 1949 года восстал, оплывая и пучась, ядерный гриб.
Зловещий зонт, подаривший нам жизнь.
В первое послевоенной десятилетие большая часть искалеченных войной ушла, и многих могил уже нет.
Умер Саша-музыкант, так и не сделавший операции по зрению, умер летчик, носивший вместо лица восковую маску – щеки, нос, усы. За несколько лет она стала серой, стертой, страшной.
Он всегда спал вечером у церкви Успения Богородицы, однажды его оттуда и забрали в морг.
Умерла и двужильная Дуня-буфетчица: рак, медали и «Красная Звезда» на красных подушечках, духовой оркестр.
Расплескалась в улочках окрестных
Та мелодия, а поющих нет…
После 1958 года в «Закусочной» на Трубной разместили контору «Мосгормолоко» (что-то в этом роде), и первое время в тихую женскую обитель врывались загулявшие личности, залившие уже зенки и благим матом орали:
– Дуня, 150 с прицепом и повторить!
Гадом буду – не забуду этот паровоз…
Я очень рано понял, что обязательно всё это опишу – и надпись «Юрка Пая», и наш двор, и мужскую 239 школу, и Сандуны, и голубятников и шалманы.
Я многие годы частенько приезжал на Сретенку, проходил переулками, Трубной.
И, поравнявшись с бывшим шалманом, я слышал: Саша-танкист, склонив обожженную щеку к своему нарядному, горящему перламутром аккордеону, играет мелодии Берлина, Вены, Парижа, Буэнос-Айреса.
«Besamemucho», «LaCumparsita», «Под небом Парижа», «Караван», «Брызги шампанского», «Рио-Рита»…
Но из прошлого, из былой печали,
Как ни сетую, как там ни молю,
Проливается чёрными ручьями
Эта музыка прямо в кровь мою.
Я не стал писателем.
В моей детской мечте было много суетного, я желал славы, денег, вольной жизни и прочих мимолетных соблазнов.
С тех пор, как я неведомым образом на склоне лет излечился от мучительной болезни, что терзала меня десятилетиями (увы, шалманы не стали спасительной прививкой), я разом отрешился от всего суетного, мне совсем мало теперь надо, и ничего от жизни, кроме новых испытаний, я не жду.
Я не стал писателем, но я исполнил свою детскую клятву. Юрка Пая, Дуня, Саша-музыкант, быть может, теперь вы уйдете из моей памяти, и меня перестанет терзать эта музыка, обжигающая душу?
Хочу ли я этого?
Не знаю.
15 декабря 1958 года культуре «Голубого Дуная» пришел конец – было опубликовано Постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР «Об усилении борьбы с пьянством и наведении порядка в торговле крепкими напитками».
Кафе-мороженым и аналогичным предприятиям общепита оставили «Советское шампанское» и сухие вина; водку и все остальное – ресторанам.
Хотели, как лучше…
Вместо борьбы с пьянством спровоцировали резкий его рост.
Уже в 1959 году народ, естественно, нашел выход из положения.
Началась эпоха «Башашкина» – знаменитого центрального защитника ЦДСА и сборной СССР – с номером «3» на футболке.
– Башашкиным будешь?
Бутылку водки стали покупать вскладчину 2-3 человека, появилась новая питейная культура, после денежной реформы получившая название «на троих».
Первого января 1961 года один ноль с денег 1947 года убрали, сами деньги внешне стали попроще, купюры сильно потеряли в размере.
В новом масштабе установились цены на водку: «Кубанская любительская» (я был её и незабвенного «Горного дубняка» большой любитель) и все горькие настойки стали стоить (со стоимостью посуды) 2 р. 62 коп., «Московская особая» водка – 2 р.87 коп., «Столичная» (появилась в широкой продаже в 1953 году) – 3 р. 07 коп., коньяк три звездочки – 4р. 12 коп., коньячные напитки «Арагац», «Самгори» – 3 р. 62 копейки.
Цены на посуду: чекушка– 9 копеек, пол-литра – 12, винная 0,75 – 17 копеек.
Народ выбрал «Московскую». Коренной в тройке, собрав деньги, оставлял себе 13 копеек и посуду и мог выпить еще кружку разливного «Жигулевского» пива за 22 копейки, которое стали разливать из металлических бочек на колесах, как и квас.
Пить в общественных местах запрещалось, можно было загреметь в милицию, что грозило серьезными неприятностями, поэтому пили в укромных местах: между гаражами, в закоулках, у голубятен, в кустах, подъездах, в общественных туалетах, все наспех, все на нервах.
Взбудораженные нервы требовали успокоения, за год потребление алкоголя удвоилось.
Водку вместе с закуской стали приносить в пивные, столовые, кафе, даже в детские кафе-молочные.
Власть добавила выпивке состязательный характер. И каждый подсознательно думал: «Да что, я этого милиционера не проведу?»
Забегая вперед, расскажу историю. 16 июня 1972 года я шел встретить Татьяну Михайловну из школы.
В этот день вышло «Постановление ЦК КПСС и Совета министров об усилении борьбы с пьянством».
Я по этому поводу купил газету, чекушку «Кубанской» и зашел в столовую на проспекте Вернадского, где всегда было бутылочное пиво.
Когда я наливал водку в стакан, в зал вошли два милиционера.
Деваться было некуда, и я поставил ополовиненную четвертинку на стол.
– Вот дает! – сказал сержант, – даже не прячется.
– А вы что, «Постановление» не читали? – удивился я, протягивая им газету, – с сегодняшнего дня ответственность за пьянство усиливается, но разрешается приносить и распивать. Так что вот это, – я показал на стеклянную табличку «приносить и распивать спиртные напитки категорически запрещается», – вот это скоро снимут. Ваше здоровье, – и я выпил полстакана.
– Ты закусывай, – посоветовал мне сержант, – возьми себе стюдень.
– И правильно, а то где еще выпить человеку, – поддержал правительство рядовой, – и нам лишняя морока – ходи, смотри, что у кого под столом стоит.
И стражи порядка удалились в отделение милиции порадовать товарищей благой вестью, которая была выдумана мною от начала до конца.
Вернемся, однако, к родному пепелищу.
У нас была печь-голландка, она щеголяла белоснежными изразцами, по центру гладкими, а по краям с лепниной, с изразцовой полкой и медными вьюшками и заглушками, выглядело это все неожиданно нарядно в нашем убогом жилище.
В печное дело я втягивался постепенно, набирался ума-разума долго.
Дровяные биржи начинали работу 1 сентября.
Еще до того, как пойти в первый класс, я сопровождал отца на Биржу; там, в Головином переулке был шалман, потом пивная, дожившая до перестройки и сгинувшая в лихие 90-е.
Брать меня в шалман отцу строго-настрого было запрещено мамой, отец называл ее «Главносемействующая» за крутой нрав и склонность командовать.
Отец запрет, конечно же, нарушал, но вынужден был ограничиваться малым.
«Дрова, они разные бывают», – эту немудреную истину я слышал несчетное количество раз.
Прежде всего, у учетчика, того, кто мерил пресловутый «кубик» осведомлялись: откуда дровишки?
И получали неизменный ответ: «Из лесу, вестимо. Из Тверской губернии».
На что покупатель глубокомысленно замечал:
– Там дровяники правильные (дровяник – участки леса, предназначенные на дрова). Баржой, стало быть, доставлены?
– Баржой, в самый что ни на есть Северный порт, – учетчик прекрасно понимал намек. – Если и сплавляли, так они год сохли. Дрова сухие, жаркие.
– Особенно осина, – иронично заканчивал беседу покупатель.
Вряд ли кто из нынешних горожан скажет, какие дрова лучшие.
Наверно, удивлю – ольховые, ни сажи, ни золы, один жар.
Ольхой топили барские и царские печи.
Дрова с севера – значит, будет ель, сосна, береза и осина.
Кленовых дров в России не бывает, по древнеславянским поверьям клен – это человек, липу не рубят на дрова, из нее делают утварь и иконостасы, отличные дрова из яблони и груши, вот и сжег немец в войну все сады.
Надо было договориться с учетчиком, чтобы в «кубике» было поменьше осины, а уголь (1 куб дров можно было получить углем, ? тонны) был донецкий антрацит.
Что-что, а договориться отец мог с кем угодно, дар Божий, которого я начисто лишен.
День покупки и доставки дров был длинным и тяжелым днем, потому что привезенные дрова нужно было распилить хотя бы так, чтобы их можно было убрать в сарай.
Соседи помогали друг другу, но надежнее было управляться силами своей семьи, поэтому к козлам я встал рано.
Опытному пильщику достаточно было, чтобы вторую ручку двуручной пилы кто-нибудь держал и двигал ею в такт, для этого годился ребенок.
Если пила хорошо разведена, пилить с малолетним помощником можно.
Пилы в нашем дворе разводил лучше всех наш коммунальный враг Александр Иванович.
Во время перемирия мы вручали ему пилу, он отчаянным усилием приходил в относительно трезвое состояние и разводил зубья на совесть. Про такую пилу говорят – сама пилит.
Профессиональные пильщики пользуются для определения длины чурака (отпиливаемой части бревна) меркой – палкой, которую привязывают к козлам.
Мы пилили на глазок, а глазомер у меня удивительный, чураки по 50-55 см, так как топка у нашей печки была – ого-го.
После пилки – колка.
Если Петр I был царственный плотник, то Николай II – царственный дровокол; современники свидетельствуют – царь был дровокол от Бога, и быть бы ему дровоколом, но что-то в небесной канцелярии напутали, и русская история пошла под топор.
Но топором рубят дрова любители для бани на даче, колка дров производится колуном, а топор – инструмент плотника.
Прежде, чем развалить чурак на плахи, надо его осмотреть. Трудности при колке создают сучья, так вот сук надо рубить вдоль, а не поперек, а то с одним чураком выбьешься из сил.
Развалили плаху на два полена – получили четверик, на три – шестерик, на четыре – восьмерик, которым и топилась наша печь; мельче – лучина и щепа, необходимые для растопки.
Поленья нужно уложить в поленницу так, чтобы она не завалилась, чтобы удобно было брать дрова и не получилось так: всю березу и хвойные сожгли, осталась одна осина, а от нее не занимается антрацит.
Печи–голландки в Россию, естественно, завез Петр I, уж очень ему изразцы с парусниками были милы.
Муравленые (изразцовые) печи в России ставили со времен патриарха Никона и печи с пазухами и сложными дымоходами ставили, но Петру все иноземное казалось лучше.
Первобытная голландская печь была (как и русская) теплонакопительной и примитивной, брала массивностью (10 м?), поэтому медленно и остывала.
Топку имела без колосников и поддувала, но в России ее быстро усовершенствовали.
Самые маленькие голландки были по 2,5 м?, но обычный размер – 4-5м?, обязательно изразцовая, с полками, иной раз с пилястрами и даже колоннами.
Печь остывала медленно, потому что имела несколько камер, где раскаленный воздух запирался системой вьюшек и заслонок.
Топить голландку одними дровами накладно, дрова служили для создания температуры, при которой загорался каменный уголь.
Уголь – только кардиф или антрацит, тот, кто попытается топить голландку бурым углем или штыбом, тот враг печи и самому себе, можно до того дотопиться, что произойдет самовозгорание сажи в дымоходе.
Вьюшки надо закрывать в строгой очередности, а заслонку дымовой трубы – только когда в топке все перегорело или вытащено кочергой в ведро с водой, иначе недолго и угореть.
Родители поочередно преподавали мне эту науку.
Зимой топить печку, кататься на коньках и санках и читать книги (по одной в день, частенько я читал их у топки), – это мои любимые занятия по сию пору, но санки! – вот уж поистине укатали Сивку крутые горки.
Дом спалить я не мог, но бед натворить – легко, поэтому печку мне доверили не сразу.
Постепенно я понял, как лучше уложить поленья, чтобы вовремя занялся и начал рдеть уголь, знал, что его надо вымочить, а иногда и взбрызнуть водичкой.
Уголь раскалялся и, наконец, по нему начинали бегать языки синеватого пламени, жар становился невыносимым, и я закрывал дверцу топки, время от времени орудуя кочергой.
Кочерга, металлический совок, щипцы, рукавицы, ведерко с сухим чистым песочком, ведро с водой, чтобы сбрасывать запоздавшие угли, иначе весь жар в небо уйдет, вот все инструменты истопника.