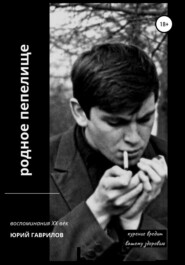скачать книгу бесплатно
Начало надписи было, видимо, утрачено, но, сколько я не осматривал ноги мужского 1-го разряда, я не видел ни одной шпоры на пятке, ни острогой, ни репейником, ни колесиком со звездочкой.
Со шпорами я был хорошо знаком.
Сосед Александр Иванович в молодости, по его словам, служивший в кавалерии, когда он выпивал «в плепорцию», как он сам выражался, извлекал из своих слесарных ящиков шпоры и прочие интересные причиндалы.
Здесь были огромные связки ключей от неизвестных замков, блестящие и позеленевшие гильзы от разных систем оружия, австрийский штык времен первой мировой войны, обрубки цепей различной конфигурации, включая велосипедные, шарикоподшипники шариковые и роликовые, обрезки меди листовой, обрубки олова, связки металлических колец, карабины от простых до весьма головоломных, у которых верхняя и нижняя часть независимо друг от друга вращались на оси, застежки, медные английские булавки, такие большие, что ими можно было крепить конную упряжь…
Но, заглянув еще пару раз в сарай и нарушив «плепорцию», Александр Иванович утрачивал добродушие и шел точить именные ножи: «на Левку нож точу, на Вальку, на Юрку», – приговаривал он, стоя у ножного точила.
Впрочем, всё это были пустые угрозы.
Как правило, мы поджидали женщин, которые моются быстро, но собираются медленно.
Мы должны были возвращаться домой вместе, потому что в начале Трубной, между Печатниковым и Колокольниковым переулками располагался филиал столовой №3 Дзержинского района, попросту шалман, «последний кабак у заставы» нашего несчастного отца.
Во избежание путаницы: «шалман» – это заведение с правом торговать водкой и вином в разлив без наценки.
Теперь уже никто не скажет, была ли то продуманная мера властей или так получилось стихийно, но шалманов в Москве до 1958 года было, скажем так, много.
Сколько путаницы и вздора по этому поводу я обнаружил в интернете, что диву дался, нарушив собственное правило: ничему не удивляться.
Шалманы были разных типов.
Те, что были расположены в первых этажах капитальных зданий, обычно именовались филиалами каких-либо столовых или кафе. Иногда они скромно назывались «Закусочными», в просторечии – забегаловками, там действительно иногда закусывали, но не в еде была там сила.
Часто это были выродившиеся «американки», тип предприятий скорого питания, появившиеся во время войны, в которых цены были заметно ниже коммерческих ресторанов.
Там, где позволяло место – на площадках снесенных разбомбленных домов, в парках, на окраинах – строились дощатые «деревяшки», павильоны типа «голубой Дунай».
Много существует версий происхождения этого названия, распространившегося по всей Великой, Малой и Белой Руси.
Безусловно, оно было принесено фронтовиками из освободительного похода: Дунай течет и в Румынии, и в Болгарии, и в Югославии, и в Венгрии, и в Австрии.
Предположения о том, что хибарки и сараюшки «голубых Дунаев» были названы по цвету окраски – вздор, в Москве они были окрашены преимущественно в камуфляжный зеленый цвет, а некоторые еще и нагло маскировались вывеской «Пиво – воды», хотя правильно было бы: «Пиво – водки».
Во главе заведения стояла буфетчица, бой–баба, а уж если фронтовичка из прачек, как Маня-полбанки, или из санитарок, как Дуня-«потерпи, миленький», так от тех не позволяли себе отмахиваться ни фронтовики, ни блатные, ни даже инвалиды, кроме контуженых, «психических и припадочных» в просторечии.
Так ведь те себя не помнили, и это все понимали.
«Потерпи, миленький, сейчас я тебя вытащу», – уговаривала было маленькая жилистая Дуня, выталкивая из заведения какого-нибудь раздухарившегося дебошира, и он, «батальонный разведчик», ее слушал.
В парке «голубой Дунай» мог быть крошечным ларьком, но огороженное (не обязательно) место под навесом или без оного служило торговым залом, где вокруг столиков или стоек и собирались жаждущие.
Над каждым из таких заведений можно было написать: «Придите ко мне, труждающиеся и обремененные, и я успокою вас».
«Если душевно ранен, если с тобой беда, ты ведь придешь не в баню, ты ведь придешь сюда», – поется в песне.
Это был клуб обездоленных, людей без будущего, калек, для которых годы военного ада были лучшим и самым ярким временем их куцей растоптанной жизни.
И наконец, это было место, где пьющий человек мог спокойно (здесь его никто не пилил, не оговаривал и не останавливал) удовлетворить свою насущную потребность в привычной обстановке, в среде себе подобных.
Многим и идти-то было некуда, их ждала либо койка в общежитии, либо спальное место в комнатушке коммунальной квартиры, где у мужика на голове топтались жена, теща, дети и прочие чада и домочадцы.
В забегаловке человек расслаблялся и слушал подчас невероятные истории бывалых людей. Нигде кровоточащий вопрос современности: «За что кровь проливали?» не ставился так прямо и резко. 58 статья пункт 10 (антисоветская агитация и пропаганда) прямо так и витала в прокуренной и проспиртованной атмосфере шалманов, но никого там не хватали; «Голубой Дунай» был своеобразным очагом свободы, Гайд-парком.
Да и существовали негласные, но твердые границы дозволенного: ты ври, ври, говори, да не заговаривайся.
В филиале на Трубной прилавок был слева от входа, где рядом с полками висел диплом: заведение третьей категории с правом разлива.
Заведующей была необхватных размеров нарумяненная и накрашенная Дора, а буфетчицами посменно – Дуня и Даша, и когда ее сменила Гюзель, все равно заведение называли: «У трех дур».
У входа висел незамысловатый прейскурант.
Чехарда с ценами, которая встречается у мемуаристов, объясняется тем, что в 47-48 гг. было три снижения цен, а 1 марта 1949 года закончился первый этап снижения государственных цен, второй был в 1950-54 годах.
До декабря 1947 года (денежная реформа, отмена карточек) водку получали по талонам, которые выдавали по месту работы.
Судя по всему, отец, наборщик (верстальщик) «Красной Звезды», главной газеты Министерства обороны, трудностей с получением талонов не испытывал.
Водка по коммерческим ценам населению была не по карману (как и все остальное: магазины, рестораны).
В декабре 1947 года власти задрали розничные цены таким образом, что моя бабушка, работница регистратуры роддома на Миуссах, могла купить при желании на месячную зарплату (280 рублей) 4 бутылки водки «Московской, а на закуску – только соленые огурцы.
Но у нее почему-то подобного желания не возникало.
Началось регулярное плановое снижение цен, с 10 апреля 1948 и до первого апреля 1954, оно было нешуточным: от 10 до 60% за один заход. В результате такой политики розничные цены сократились от уровня декабря 1947 года в два – два с половиной раза в 1954 году.
Но восьмого по счету снижения цен весной 1955 года советские люди не дождались: до денежной реформы первого января 1961 года цены оставались стабильными.
Для подавляющего большинства граждан все эти пропагандистские маневры властей носили чисто академический интерес: в деревне торговля была мизерной, колхозники, как в Киевской Руси, жили преимущественно натуральным хозяйством.
В провинции выбор товаров в магазинах был поразительно скудным: кое-какая бакалея, постное масло, дешевая карамель «Подушечки», иногда сахар. Ну, и конечно, вино и водка, с пивом было много хуже.
Ни мяса, ни колбас, ни сливочного масла, ни сыра там и в глаза не видели, а хлеб и многое другое продолжали выдавать по карточкам, переименовав их в талоны.
В лучшем положении были ОРСы (отделы рабочего снабжения) железной дороги, военных заводов, металлургических комбинатов.
По первой категории снабжались Москва, Ленинград, Киев, но и в Москве за яйцами нужно было постоять в очереди, разливное (дешевое) молоко можно было купить часов до 11 утра.
Вообще, чтобы купить что-либо, нужно было встать в очередь, но полчаса до прилавка считалось пустяком, когда особо оговаривали: «пришлось, конечно, постоять в очереди» – это предполагало многочасовое стояние.
С мая 1946 года началось ежегодное размещение Государственного займа на восстановление народного хозяйства, заём был делом сугубо добровольным и жестоко принудительным.
Партийные и подхалимы подписывались на месячную зарплату, беспартийные на половину; в провинции находились смельчаки, отказывались, их не сажали – Боже упаси, но уже на следующий год строптивые оказывались в первой шеренге энтузиастов – их воспитывали разнообразными суровыми и действенными методами.
Так что одной рукой власть давала, а другой отбирала.
В результате ценовой политики в шалмане установился такой баланс: на десятку, полученную работягой от жены на обед, он мог ублажить себя 150-ю граммами водки, кружкой «Жигулевского» пива («150 с прицепом») и двумя бутербродами с килькой или одним с салом.
Умеренные посетители этим и довольствовались, но большинство оставалось «повторить».
Деньги зарабатывались всевозможной «халтурой», подработкой.
Постоянная мишень сатириков – сантехник из домоуправления (электрик, кровельщик) добывал средства, обирая население, как и милиционер, и орудовец (организатор уличного движения). Рабочий-станочник точил что-нибудь на продажу, оставался сверхурочно, выносил все, что плохо лежало на родном предприятии («Ты здесь хозяин, а не гость, неси отсюда всякий гвоздь»), санитар продавал больничные простыни.
Мой отец, высококвалифицированный наборщик-универсал, имел халтуры, сколько хотел.
Если он просто «повторял», он был в норме, но если он повторял без счета…
«Мой батя видел твоего в пивной на Трубной», – сообщала какая-нибудь Таня Горячева, и я шел «извлекать».
За прилавком стояла пивная бочка, баллон углекислого газа для подачи пива из бочки, за занавеской хранились бочки пустые и полные. У буфетчицы был штат добровольных помощников, так что они сами бочки не катали, ящики не таскали – завсегдатай тут как тут, а ему – накапают.
Из горячего были сардельки свиные, иногда – раки. Вобла, селедка, килька, хамса, тюлька – соленый ряд и даже бутерброды с красной рыбой по праздникам.
В Пасху шалман закипал пеной многоцветной яичной скорлупы.
Московские умелицы, чьё православие было чаще всего сомнительным, не только ухитрялись выжимать все оттенки желтого и коричневого из луковой шелухи, но при полном отсутствии подходящих красок, получали верноподданный кумачовый, алый, карминный, розовый. Нежнейшая бирюза соседствовала с небесной голубизной, цвели васильками аквамариновые пятна, и зеленка всюду распускала свои ядовитые листья. И поверх всего этого великолепия маками горели рачьи ломаные панцири. Как это было живописно!
Пасха была настоящий Праздник. Не знаю уж почему.
Что я знал о Пасхе, о христианстве?
Ничего. «Христос воскресе! Воистину воскресе!», – и всё.
Но к Пасхе готовились, баба Маня доставала формы для куличей, мама-атеистка красила яйца, возникала предпраздничная кутерьма, а день сталинской конституции отмечали скучно – выпивали и всё.
В шалмане на закуску тратились не все – в двух шагах, на углу Сергиевского и Трубной – овощной магазин, так что соленые огурцы, (по собственному разнообразному опыту знаю – лучшая закуска к водке), всегда были на столиках.
Пили стоя.
В шалманах курили, преимущественно «Север», «Звездочку», те, что почище – «Беломор» и даже «Казбек».
Пивные кружки были массивные, толстого стекла, нынче таких не найдешь – серьезное оружие в драке.
Стычки были часто, но их быстро гасили сами посетители или буфетчицы, генеральные сражения случались редко, иногда даже приезжал «черный ворон» из 18-го отделения, и в него волокли и правых, и виноватых.
Сложнее было с инвалидами – «Ты под стол-то посмотри, у нас три ноги на четверых»,– и мильтон отступал.
В вытрезвитель забирали только тех, с кого можно было что-то взять, кредитоспособность милиционеры определяли с первого взгляда.
Женщин в шалмане было мало, и напиваться шлюхам не давали во избежание истерик, визга, пьяных слез, так что желающие заработать стерегли клиента на выходе.
«Здесь недалеко…», – так обычно начинался скоротечный роман.
Один приятель моего отца, к которому мы ездили семьей в гости, жил в деревне Щукино (приблизительно там, где теперь Строгинский мост).
Шалман в Щукино, на пристани, был деревенский, водка была в огромных бочках и стоила в 1,5 раза дешевле «Московской особой».
В войну стали гнать спирт из опилок и выпускать водку без названия, народ, впрочем, метко окрестил ее «сучком». Сучок получше – белая головка (водку закупоривали пробкой и заливали сургучом разного цвета – традиция еще царских времен) и похуже, подешевле – красная головка.
На складчинах начинали с белой головки, а потом шла в ход резко вонявшая сивухой красная головка.
Сам хозяин дома в Щукино не пил (выпивал для компании), пила его жена, зарывала про запас бутылки в огороде, забывала – где и вечно перекапывала грядки, а когда денег на целую бутылку не хватало, перехватывала стакан в шалмане, но не торчала там подолгу, а сразу бежала домой.
Другой сослуживец жил в Сокольниках, в Полевом переулке, в невообразимом курятнике – к рубленому двухэтажному дому прилепились пристройки, галереи (дом имел глухую стену), надстроена мансарда; все это шаталось, скрипело, сквозило, грозило обрушиться.
Отец подобные строения называл непонятным словом «хива».
Там, неподалеку, был классический шалман «деревяшка» – павильон «Закусочная», где собиралась хевра – шпана, грабившая людей в парке «Сокольники»; посетителей «Закусочной» они, впрочем, не трогали.
А уж в самом парке шалманов было несчетно, потом они выродились в кафе-стекляшки, вроде многим известной «Сирени».
В шалмане на Трубной играл на аккордеоне Weltmeister обожженный слепой, Саша-танкист, музыкант от Бога.
Он стоял или сидел на торном ящике у самого входа, перед ним лежала кепка, в которую опускали мелочь; песню можно было заказать, но тогда нужно было бросить не меньше рубля, желтого, почему-то напечатанного по вертикали.
Иной раз среди меди и «серебра» можно было увидеть скомканную зеленую трешку.
Время от времени Саша отправлял содержимое кепки в большой кошель (может быть – в дамскую сумочку), который держал за пазухой.
Болтали, будто бы Саша играет в каком-то ресторане (называли «Нарву»), за занавеской, чтобы не смущать публику (некоторые брезгливо относились к инвалидам – я бы этим некоторым головы поотрывал).
«Саша зарабатывает на операцию по зрению», – объясняли завсегдатаи.
Пил он редко, только когда подносили.
Вечером за ним приходила жена – высокая, сурового вида сухопарая женщина, всегда с кавказской овчаркой на поводке, и они молча поднимались по Печатникову переулку – жили они где-то у Сретенских ворот; я встречал Сашу и его жену с маленькой дочкой в филипповской булочной и продмаге на углу Рождественского бульвара и улицы Дзержинского (Лубянки).
Играл и пел Саша фронтовые песни; но не те, что передавали по радио, блатные песни; все это играл и пел в той манере, которая принята была в шалманах и вагонах пригородных поездов.
Публика была невнимательна, шалман слушал самого себя, каждый желал успеть выкрикнуть свою правду.
Гоп со смыком это буду я!
Граждане! Послушайте меня!
Граждане же не желали слушать,
Граждане желали выпить и покушать…
…и поговорить!
Но иногда появлялся ценитель, в кепку летела трешка, Саша как-то по-особому склонял обожженную щеку к инструменту и начинал играть «Караван».
Он играл аккордеонную классику, играл так, что иной раз замолкал шалман, своим истерзанным сердцем разделив чужую тоску.
Жизни моей хватило, чтобы понять: в грязи и слякоти пивной, в чаду дешевого табака и матерщины, в луже тротуара или собственной блевоты мне были явлены подлинные великомученики и чудотворцы.
Невидимыми нимбами осияны были их хмурые, а иной раз и звероподобные лики.