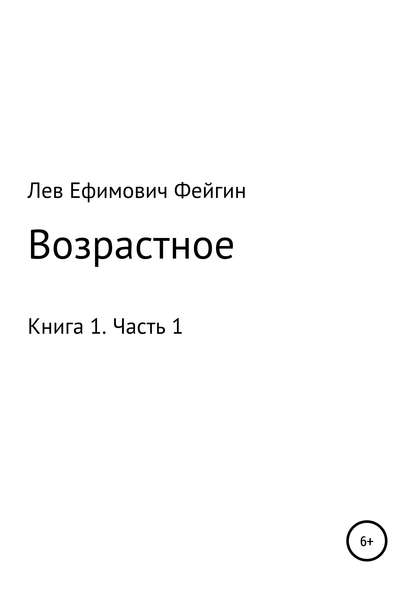 Полная версия
Полная версияВозрастное. Книга 1. Часть 1
Хаим подождал немного, а затем ушел на базар. Там он встретил несколько Хотимских парней: евреев и русских. Они поговорили… О чем рекруты говорят? Об «алфавите», о своих родителях, если они больны, даст ли это им привилегию? А рекруты, у которых все в порядке, те говорят о своих девушках, смеются, курят, семечки грызут, плюются.
Всей «ватагой» они вернулись на «призывной пункт». Хаим ждал Григория до вечера, но тот так и не появился. На этом и закончилась их та первая, случайная встреча.
И снова, сегодня, это уже вторая встреча в их жизни, но теперь у них иные интересы, иные разговоры. Они договорились, что Хаим выйдет на работу через пару дней. Гутерман Гиршель[129], (по-русски – Григорий) будет давать ему «полировальную» работу. – Поскольку ты, Хаим, большой специалист, краснодеревщик, для тебя есть много такой работы, только успевай работать и зарабатывать.
Григорий предложил Хаиму небольшую сумму денег авансом. Хаим поблагодарил его, но отказался. Весьма довольный результатом разговора, Хаим пошел домой.
Дома его ждала хорошая новость. Был приглашенный дядей врач. Доктор осмотрел Ревекку и заверил дядю и присутствующих домочадцев, что все в порядке, все хорошо, и все будет хорошо. Затем он поблагодарил дядю за гонорар и ушел.
И был еще один сюрприз. Люба, единственная дочь дяди и тети, написала и отправила подробное письмо в Хотимск. Она адресовала его тете Саре, маминой маме, с просьбой передать «привет» Фейгиным от их сына Хаима. Когда Хаим пришел, Люба рассказала ему о письме, и он расцеловал её.
Роды у моей матери прошли, и закончились благополучно, если не считать время тревог, слез, опасений за жизнь новорожденного младенца, меня. Стоило мне появиться на свет Божий, как я подал один, единственный писк – ку-у-а-а-а, – и тут же умолк, и ни гу-гу.
Присутствующие, тетя Фрума и её дочь Люба, растерялись. За перегородкой, в столовой, были дядя Залман-Бер, его сын Ицхок-Веле, и мой родной отец. Они шёпотом читали «Тегилим[130]».
Одна лишь повивальная бабушка Бася[131], которой, в то время было примерно 60–65 лет, делала то, что она знала и умела. Это было уже не первый раз, когда она была в такой ситуации. Сначала она вымыла мое тельце теплой водой, сделала легкий массаж, согрела мои пятки. Затем снова сделала массаж, а потом начала дуть воздух в мой носик.
И, насколько я могу «помнить», я задыхался, стараясь не подавиться от запаха гниющих зубов, с примесью чеснока изо рта моей спасительницы, но держался я бодро и «мужественно» и не показывал никаких признаков жизни.
Воскресить мертвого пока еще, «на сегодняшний день», никому не удалось. Я говорю – «на сегодняшний день», потому что не исключено, что когда-нибудь человечество придет к тому, что это будет вполне возможно, и обыденно, но это, как говорят, «программа максимум» для всех нас, для всего человечества.
А бабушка Бася занимается «программой минимум». Она старается отвести «смерть» от намеченной ею жертвы. Это то, что она делает, и делает хорошо. Такая уж у нее специальность. Сохранить новорожденных. Дать им возможность жить.
И если люди, у которых баба Бася принимала младенца, благодарят её, и поминают её «добрым словом» везде и всюду, то она, по правде говоря, «трогательно» рада. Для неё это «самая высшая оплата».
И вот мой отец вмешался в это «безрезультатное мероприятие», и сказал. – Так он же мертвый!!!
А баба Бася, сделав «большие» глаза, возразила ему, «горемычному». – А ты чего родненький, молодой батя, дорогой мой человек, говоришь? Он жив. Приложи-ка свою руку к его сердечку. – Отец последовал приказу и выполнил то, что ему сказали. – Ну, что же? Что? Чувствуешь, как бьётся его сердце? Да?
Отец кивнул головой, что означало. – Да, оно бьётся. – И он, наконец-то, улыбнулся.
– Когда баба Бася «принимает» младенцев, «он айн горэ», они, слава Богу, не умирают. – Похвалила она сама себя.
На лицах присутствующих, включая маму, сквозь ее боли и страдания, появилась улыбка, и тут я, возмущенный их недовериям в мое существование, крикнув: – ку-а-а!!! – и моргнул одним глазом всем, всем, всем. – Что Вам всем от меня надо???
Ну, конечно, женщины засуетились, ожили, кто во что горазд… В руках у бабы Баси сверкнули ножницы. Первым делом отхватили до сих пор болтавшийся мой пуп.
Люба принесла бульон и начала кормить мою мама.
Мужчины удалились в спальню дяди, где стоял «бар» с напитками. Оттуда послушался приглушенный, тонкий звон «хрусталя».
И, конечно, я пытался… к мужчинам… Но баба Бася шлепнула меня по…: – Рановато тебе туда… – И положила меня к грудям матери… И я сделал свой первый роковой глоток и уснул спокойным сном.
Назвали меня Лейб, в память о дедушке, так недавно умершем; всего-то с полгода тому назад. Это имя происходит от слова «лев», который был коронован как «царь» зверей.
Чисто по-еврейски, пожилого человека называют «Реб Лейб», где слово «Реб» значит «учитель».
Но там, где нет слова «Реб» – «учитель», используется буква «А» – приставка к имени. Она может быть с начала имени. И произносится это следующим образом: – «Алейб» – «лев», «Абер» – «медведь», «Аволф», и так далее.
Позже, когда мне было уже пять лет, и у меня уже была маленькая сестричка, по имени Бася, названная по отцовой бабушке, и ей уже пошел четвертый годик, а на маминой талии вырисовывался округленный животик, и мы втроем: – Мама, Бася, и я – ранними зимними вечерами, при свете небольшой керосинной лампы, сидели на теплой лежанке, в ожидании прихода отца с работы.
Мама часто вздыхала и рассказывала нам совсем не детские сказки, а историю о том, как она рожала меня, своего первенца, своего «бхора[132]».
Это, конечно, мальчик. За ним наблюдают, он пользуется всеми правами, льготами в семье. Кто-нибудь один из дедушек или бабушек «шефствует» над ним.
Дома, когда семья садится кушать обед с мясом, а обычно это происходит в Субботу, то мать режет мясо на кусочки, да так, чтобы каждому члену семьи получилось по большому и хорошему куску, хотя, в лучшем случае, этого куска мяса достаточно только для одного человека. Но, именно поэтому она и мама, чтобы она была специалистом и сумела выделить большой и хороший кусок мяса для каждого члена семьи. Первый кусок получает отец, второй кусок достается первенцу, остатки мяса идут остальным детям.
Итак, родился я в городе Почепе Черниговской[133] губернии 8-го Декабря 1900 года по старому стилю, или 21-го Декабря – по новому[134] стилю.
Чуть больше года после этого «события», моя мама не работала, поскольку занималась моим воспитанием.
Потом уже начали показываться следы второго претендента… на появление на свет Божий, так что маме было не до работы. А если нанять няню, то её зарплата плюс питание немногим меньше заработка матери.
Отец много работает и зарабатывает неплохо, потому что его товарищ Гутерман остался верен своему обещанию. – Будешь хорошо зарабатывать.
Весной этого года мы переехали в другую, большую, квартиру. Это была двухкомнатная квартира. Теперь уже мать с малышом, и даже с двумя детьми, может жить отдельно. Эта квартира находится на Стародубской[135] улице, недалеко от работы отца, всего через три дома от нашего жилья. Это очень удобно для отца, теперь он может прийти домой на обед.
На ярмарке, в Николин[136] День, отец купил козу, пять штук кур[137], шестой – петух. Жизнь пошла нормальная. Жить стало лучше, жить стало веселей.
Упомяну еще раз, что младшая сестра моей бабушки Этель, по имени Пнина, вышла замуж за портного по фамилии Непомнящий. Она, как и ее старшая сестра, «верховодила» всей своей семьёй. Эта семья жила в большом собственном доме. Муж и трое ее сыновей были портные, а зять, муж единственной дочери, был парикмахер.
Она побывала у нас, еще, когда мы жили у маминого дяди Залман-Бера. Вот и сейчас она «распорядилась», чтобы отец пришел к ним подобрать себе материал на костюм. Её сыновья снимут мерку, и сошьют отцу костюм в течение месяца, причем, с оплатой в рассрочку.
Моей маме ничего не нужно, потому что в день их «тихой» свадьбы, старшая сестра Ципейра подарила ей комплект женской одежды (дрошинг-шаньг): новую жакетку с юбкой, несколько кофточек, блузок, чулок, и многое другое из необходимого дамского белья. А также она дала ей несколько пар обуви.
Несколько слов воспоминаний из их прошлого отъезда из города Хотимска. У каждого из них был лишь небольшой чемодан. А много ли вещей уложишь в такой вот чемоданчик? Особенно для девушки, причем, не из бедной семьи, да и «на выданье», к тому же без согласия родителей, конечно же, всё это осталось дома, у родителей.
Другое дело – Хаим. Он родом из многодетной семьи ремесленника. Одёжи, что на коже, харчей, что в животе…
Летом к нам в гости приехала мама моей мамы, бабушка Сара Головичер. Встреча матери с дочерью была далеко не из самых приятных «мероприятий». Свежи были следы слез, незаслуженных упреков: Хасидим – Миснагдим. Как говорят в таких случаях: «рана заживает, а рубец остаётся». И вот этим «рубцом» на сегодня являюсь «я» – Лев Фейгин, вместо Лейба Головичера… Прошу любить и жаловать, раз и навсегда.
Бабушку Сару мои родители встретили, как самую желанную гостью. Все они прослезилась, поплакали. Но время слез, откровенно говоря, уже давно прошло. Никто не может вернуть прошлое. Что было, то прошло. Былого не вернуть.
Первым делом бабушка, в сопровождении своей дочери, моей мамы, вошла в спальню. Я лежал в своей кроватке, в куцей рубашонке, задрав ножки, и с кем-то, о чем-то, мне одному известном, разговаривал. И вот бабушка сперва всхлипнула, пустив непрошеную слезу, но тут же воздержалась. Мокрыми от слёз глазами она взглянула через свое плечо на мою маму, свою дочь, улыбнулась… и защебетала, потом щелкнула языком, сказав мне одному понятное. – А-а-а!!!
И опять щелкнула языком и так далее, пока я не улыбнулся ей в ответ, тараща глазенками, то на маму, то на бабушку. Она выставила мне свои милые руки, и, поманив меня пальцами, предлагала мне сесть ей на руки. Ну, а я, конечно, и рад, и счастлив, и готов, попав в объятья моей родной, еще не знакомой мне более полугода бабушке.
Итак, моя бабушка приехала к нам и, на некоторое время, осталась жить с нами. Она привезла всю одежду и обувь, которую приготовили моей, тогда еще будущей, маме на свадьбу как её «приданое». Здесь самым главным в гардеробе была «ротонда[138]».
Не менее главным и важным был… мой… узелок, довольно объемный и увесистый. В двух видах, пеленки и обыкновенное детское белье, потом было и такое, из числа… гардеробного, мужского. Напоминаю вам вторично, что «я» – «бхор» у моей мамы, поэтому, по заказу бабушки, мне сшили на год, два и три мальчиковые костюмчики, причем по три на каждый годик.
Бабушка Сара пробыла у нас почти полгода, май – октябрь, пока я не встал на ноги. Я, уже держась за бабушкину руку, «ходил» в тапочках и чулочках бабушкиной вязки. Мама получала меня, из рук в руки, только для кормления грудью.
А на подкормку меня кормили манной кашей, сдобным сухариком в теплом, да еще козьем молочке. Да это же вкуснятина. Я же этот вкус помню по сей день. Одно дело – помнить или написать о вкусе молока с горячим бубликом.
В одном из своих произведений Шолом-Алейхем пишет, что ни один художник в мире «этого вкуса не нарисует». Нельзя упускать из виду то, что меня потчевали козьим молоком. Такого «вкуса» никто и никогда не сможет нарисовать, да никто и не пытался.
Мы всей семьей отмечали Субботу, то есть, Шабат[139]. Мы часто бывали у дяди Залман-Бера с визитом в «субботний» день, и все оставались довольными. Время быстро уходит, особенно, когда оно в обрез, и вот уже настали последние дни пребывания бабушки Сары у нас.
Также мы всей семьей отмечали все праздники, в том числе наиболее важные: Рош Ха-Шана[140] – Новый Год, Йом-Кипур[141] – Судный день и ежедневный пост, а также Сукес[142] – праздник на всю неделю, счастливый, веселый праздник.
Отдельно, особенно, отмечался последний день, который называется Симхас-Тойрэ[143] – праздник Торы[144]. Это – праздник в честь Свитков Пятикнижия[145], которые были получены нашим праотцом Моисеем. В этот день все молитвы поют громко, громко, на всю катушку, допускается винопитие в синагоге. Некоторые люди выпьют по «сто», а то и по «двести» граммов вина, потом, кто поет, а кто «орёт», а кто ревет во все горло. Некоторые мужчины даже танцуют[146] вокруг амвона[147] со свитками Торы на руках.
Именно в этот день, когда был веселый праздник Симхас-Тойра, мои родители впервые принесли меня в синагогу. Бабушка Сара, мама, и я, заняли места там, где и положено быть всем женщинам мира, тогда и сегодня, то есть, на галерее. Здесь же были и тетя Фрума со своей дочерью Любой.
Когда «хождение с Торами вокруг амвона» было готово начаться, мой отец поднялся к нам. Он взял меня на руки, и понес меня вниз, туда, где находились все мужчины. Дядя Залман-Бер взял свою собственную Тору, которая, как правило, всегда находится в «саркофаге[148]», и мы втроем приняли участие в «священном шествии».
По окончании этого «хождения», наши женщины и я пошли к Головичерам на званый обед. Позже, по окончании молитв, туда же пришли наши мужчины.
Отобедав, бабушка Сара попрощалась со всеми, так как она должна была ехать домой менее чем через неделю, ведь уже Октябрь заканчивался. На этом и закончилась первая поездка моей бабушки к нам в город Почеп. Это было осенью 1901 года. В то время мне было десять месяцев.
После этого она приезжала к нам в 1902 году, когда родилась моя сестричка Бася. Все та же баба Бася была повивальной бабкой.
Отцова мать, бабушка Этель, приезжала к нам в Почеп ко дню моего рождения, на праздник Ханука[149], который бывает, по нашему[150] лунному[151] календарю, ежегодно в разные числа месяца. В 1900 году первый день этого праздника выпал на восьмое декабря по старому стилю, или двадцать первое по новому стилю. Отсюда я и веду свое «летоисчисление», в этом году – восемьдесят первый год со дня моего рождения.
Накануне праздника Ханука, на празднование первой годовщины моего дня рождения, то есть, 21-го Декабря 1901 года, к нам в гости приехали родители отца: дедушка Моисей и бабушка Этель. С ними была и их единственная дочь, родившаяся после семи братьев. Она – «замыкающая», «мизинка», которая пользуется в семье льготами наравне с перворождённым сыном «бхором». Звали её Бася. Потом ей присвоили второе имя «Алта», в переводе на русский язык – «старая». Соответственно пола, данному человеку присваивается второе имя. Ему – «Алтер», то есть, «старый», ей – «Алта», то есть, «старая». Затем это имя было изменено, в переводе на русский язык, с «Алта» на «Аня». Это было «проще пареной репы[152]».
Хочу сделать сейчас небольшое отступление и рассказать вам, мои читатели, краткую реальную историю о переводе «еврейских» имен в «русские».
Около тридцати лет тому назад у меня был товарищ по работе, «еврей». Его имя, по паспорту, было Филарет[153]. Так его назвали еще маленьким ребенком, доказывал он, показывая мне свой паспорт. В то время ему было немногим более 50 лет.
Я пытался объяснить ему, что его «еврейское» имя, скорее всего, было Фишел[154], и то, что Филаретом он стал при переводе его имени на русский язык. Но… тщетно было доказывать ему, что он просто не знает и не понимает нашей путаницы с переводом еврейских имен на русский язык.
Он сказал мне, что у него жива и здравствует мама.
Итак, мы идем к ней.
Я представился. Знакомлюсь с ней.
Её зовут Роза Семеновна. Её муж умер некоторое время тому назад. Его звали Борис Захарович.
Их еврейские имена и отчества. Она – Рейзил[155], ее отец – Шимэйн[156]. Он – Бер[157], его отец – Исосхоор[158].
Как видите, ничего неправдоподобного, надуманного здесь нет.
Но… давайте вернемся к нашей истории…
Мальчику, «бхору», присваивается имя «Алтер» – «старый», девочке – «Алта» – «старая». Или ещё два имени «Хаим» – «жизнь», «Хая» – «живая». Такое присвоения имен, своего рода «суеверие», не всегда предостерегают ребят и девчат от «эпидемии», от болезней.
К таким «застрахованным» или «заколдованным», по «суеверным» данным, ни болезнь, ни смерть не имеют права подойти. Но… всякое бывает… Конечно, бывает, и очень часто. Но смерть причины находит. На том и стоит свет. Медицина порой бывает бессильна. «Агрессора» не судят, а мы их судили, и будем судить.
У наших гостей, родителей отца, было с собой, на первый взгляд, немного багажа, но и этим они очень щедро одарили нас троих. И ведь ничего лишнего не привезли, словно доставили всё это по нашей «заявке». Всё «это» нам очень пригодилось в суровую зиму.
К примеру: отцу – шубу, верх сделан из черного сукна, на меху, с меховым воротником, а также шапку, сапоги хромовые, ботинки с галошами, валенки. Костюмы – два: рабочий и выходной, да к ним рубашки и нижнее белье.
Для моей мамы они не привезли ничего готового, пошитого – только отрезы на платья, юбки, блузки. Здесь же был и кусок мадаполама[159] для белья.
Имея в виду, что моя мама была большая рукодельница, бабушка Этель привезла ей несколько клубков разноцветной шерстяной пряжи.
Это был большой подарок для мамы. Особенно важно было то, что свекровь не забыла о любимом занятии своей снохи.
Об «этом уважении» мама часто вспоминала.
Что касается меня, то бабушка Этель тут же примерила на мне шерстяной вязанный комбинезон синего цвета, причем, явно большего размера.
Для того чтобы померить, меня одели, но засучили рукава и штанишки.
Дедушка Моисей Фейгин, крепко держа меня за ручку, повел меня во всём этом «великолепии» по нашей комнате. Я, конечно же, запутался в этой «одежде», упал, но не заплакал.
– Ай да парень. – Сказал дед.
И еще об одном хочу сказать.
Праздник «Ханука» знаменателен блинами из гречишной муки и той едой, что называется «грибены» – это шкварки, выжарки из гусиного сала, и всё это в комплексе так вкусно, что хочешь, не хочешь, а съешь всё, да ещё и пальчики оближешь.
Повторяю – горячие блины, грибены и гусиное сало – «смалец». Вот такое меню для праздника «Ханука».
В связи с тем, что «гости» предвидели нашу «нехватку» в этом вопросе, то они привезли с собой всё, кроме муки, которую отец припас заранее, словно знал. И не прогадал.
Из Талмуда.
– Когда у нас праздник «Ханука»? – Спросил один еврей у мудреца.
Тот ответил. – Когда на столе красное вино, да горячие блины и гусиный «смалец».
Через два дня после их приезда была суббота, «шабат». Сразу же после молебна в синагоге мы всей нашей «расширенной» семьей отправились в семью Непомнящих на праздничный, «званый», обед. Идя к ним, мой отец специально одел сшитый ими костюм, чтобы в присутствии своих родителях поблагодарить их за «услугу».
«Обед» затянулся допоздна.
Причина?
Во-первых, сестры не виделись пять долгих лет.
Потом было решено «огласить» «тихую» свадьбу моих родителей. Как решили, так и сделали… Пригласили соседа с флейтой, а зять хозяев хоть и парикмахер, но на скрипке играл отменно. Да ещё и выпили… по одной рюмочке… затем и по другой… глядишь, и «свадьба оглашена». Есть такой закон в жизни – там, где музыка, там и молодежь. Все гости поели, «попили», потанцевали и ушли. Мои родители, и я, начали прощаться, чтобы пойти домой, и Аня Фейгина захотела идти с нами.
Мои бабушка и дедушка решили остаться там на ночь. Весь вечер, как гости, так и хозяева, посвятили воспоминаниям подробностей жизни обеих «больших» семей в городе Хотимске.
На следующий день родители моего отца вернулись из гостей только вечером.
Побывал дедушка и в столярной мастерской, где работает Хаим. Там он беседовал с Гутерманом о работе его сына.
– Да если бы мой сын научился бы у вашего сына так хорошо, чисто, умело и быстро работать, хотя бы даже через три года, – и Григорий показал на юношу, работавшего у верстака, – да я бы вечно был бы благодарен Хаиму за это. Но у моего сына это не выйдет, потому что он с «леньком». Как быть?
– Ничего. – Сказал дедушка, глядя на Борю, так звали юношу. – У меня семь сыновей, и все друг друга учат и тянут – давай, давай.
– У Вас есть еще сыновья? – Поинтересовался дедушка.
– Ещё двое, – ответил собеседник. – Двенадцати и восьми лет.
– Вот и ставьте среднего сына к верстаку. Пусть сперва учится клей варить, инструмент точить, строгать шерхебелем, пилить доску в размашку, стружку убирать. А насчет младшего сына? Мало ли таких работ – детских, ученических, – которые вынуждены делать взрослые?
На этом наставничество закончилось.
Собеседники попрощались.
Перед самым отъездом дедушки отец пришел домой с работы и рассказал, что Боря уже два дня работает в мастерской под его наставничеством.
– Давно бы так, – сказал дедушка. – Вот теперь будет у вас в мастерской каждый заниматься своим делом, а то…
– Ладно, пора ехать домой. – Добавил он.
Наши «гости» уехали домой. Особенно спешил дедушка, чтобы успеть к началу Новогодней ярмарки, на которую крестьяне из окрестных деревень привозят пиломатериал на продажу. Вторая такая ярмарка будет аж летом, на праздник, называемый «Летний Никола». Заказов на мебель много, а сухих досок – нужных размеров и пород – мало. Да и не на каждой ярмарке бывают нужные доски.
Ранее, со времени отъезда бабушки Сары у нас началась переписка с семьёй Головичеров. «Борзописцем» стала мамина младшая сестра – тетя Рая. Позже, лет через пять, она начнет преподавать детям «Русский язык».
Фейгины же, прощаясь, обещали поручить «письмоводство» сыну Давиду, который это «дело» любит. После такой «серии гостеприимства» мы начали готовиться к «ответным» визитам.
Первое, что отец приобрел, это – чернильницу-«непроливашку», а также пузырек с фиолетовыми чернилами, две ручки, да десяток перьев разных. Мама любила писать пером «номер[160] 86», а отцу нравилось только тупоносое «рандо».
Этот рассказ имеет свою историю длиной в восемьдесят лет.
Мне было всего один год от роду, и конечно, я тогда еще писать не мог, вернее, не понимал, что делаю, и как нужно писать. Мне, например, очень понравилась моя первая «клякса», которую я нарисовал на тетрадной страничке пером «рандо», оставленным отцом. Это было благо, что отец купил «непроливашку», которая не пролила чернил. Мать, увидев это «произведение искусств», закричала на меня, подошла и забрала чернильницу, погрозив мне пальцем. Но я не боялся, просто не привык, мне всё можно, ведь я – «бхор».
Позже, лет через пять, я узнал, что моя мать – уроженка из семьи ученых, талмудистов, а мой отец – из семьи простых столяров. Он, будучи близким другом её братьев Абрама и Меера, благодаря своим способностям и прилежности в науке, во многом преуспел, например, он научился и писать, и читать молитвы, и понимать прочитанное, и всё это на древнееврейском языке. Мама, как и все её сестры, могла лишь читать молитвы на Иврите, а перевода, то есть, значения произносимых её слов, Иври-Тайт, не знала.
Что касается Русского языка, то Головичеры и Блантеры изучали даже грамматику. Но женщинам эта наука была не нужна, разве только «нацарапать» на конверте «кому» и «куда», когда понадобится написать адрес получателя, да и только. Да и то, не всегда для себя лично, а больше для кого-нибудь из соседей.
Зато младшая дочь Головичеров, «мизинка», по имени Рая, окончила пять классов «экстерном», потом давала платные уроки на дому еврейским детям. Позже она работала в «вечерней рабочей школе» под негласным наблюдением полиции, её «шефом» был стражник[161] Сергеенко из местной полиции.
Наша семья растет и пополняется…
В январе 1902 года родилась моя младшая сестренка Бася. Принимала роды, опять же, все та же баба Бася.
В 1904 году моя мама родила вполне выношенного, как заверил нас доктор, мальчика, который прожил два дня… и умер. Причина? Неизвестна. В то время, причину смерти медицина так и не установила. Умер, и все, и делу конец. Уже не было, к великому нашему сожалению, и бабы Баси. Она умерла в прошлом 1903 году. Но, даже и она вряд ли смогла бы нам чем-либо помочь. Хотя? Кто знает? Покойная ведь не раз заявляла, что у неё «мертвых детей не бывает», а мы, да и вся наша родня, так надеялись на неё.

