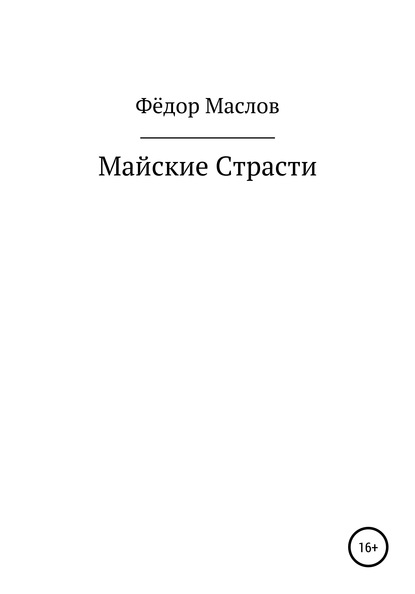 Полная версия
Полная версияМайские страсти
– Тем более! Это не повод…
– Ах, ну как ты не понимаешь! Есть причины… Очень сильные причины!
– Да, это верно! И представь ещё: как бы ты с этим всем жил!– глаза Дмитрия вновь наполнились каким-то истребляющим, потусторонним блеском.– Ты бы стал черепахой. Плёлся бы медленно, но долго. Или долго, но медленно? Ха-ха! А, Андрюша?.. Она бы тебе не давала покоя. Почти, как сейчас. Ну она и стерва! Какая стерва! Зараза настоящая!
– Это же неправда… Замолчи.
– Серьёзно. Стерва, стерва!.. Дрянь каких мало на свете!
– Ещё чуть-чуть и я тебя выгоню,– губы Андрея запеклись, голос разбивался на осколки в загустевшей, ледяном полумраке; воздух звгорался от пылавших сердец Клинкина и Яськова.– Выгоню.
Андрей, словно довольный собой, начал кивать, но тут же ударил себя по лбу и почувствовал, что душа сотряслась от этого удара, как от упрёка совести. Его лицо, будто почернело от горя. Он снова стал раскачиваться, не глядя на скалившегося и возбуждённого Клинкина.
– Сказал, что выгоню, значит, выгоню,– неразборчиво проговорил Андрей.
– Такую стерву бы за волосы!.. Вот так!!.. За все походки, выходки, жесты, взгляды… Даже взгляды. Даже во взгляде она ненавидит, бьёт. И как за это её не отодрать!
– На самом деле, она лучше, чем кажется со стороны.
– Ложь! Отодрать её и дело с концом! Не знаю, как жизнь таких людей терпит.
– Знаешь пословицу? Бьёт – значит любит.
– Такая… дрянь не может любить. Не умеет. Она и бить-то толком не умеет, а так… только палки в колёса ставит.
– Вот так она бьёт!
– Убить стерву!– вырвалось у Клинкина.
– Как так! Как так!– Андрей ледяными от страха пальцами вцепился в свои волосы.
– А вот так!.. Дура она! Всего лишь дура,– с потухающим отчаянием сказал Дмитрий.
– Эх, покой… Мне бы только успокоить её, уж очень она страдает. Она мучает меня и ещё сильней от этого страдает. Сил нет уже молчать и терпеть…
– Ещё один дурак! Подставлял-то зачем! Она ведь реакции твоей ждала. Ответа она ждала, а ты со своими щеками… Получается, что равнодушен… Ты её щеками своими только ещё быстрее угробишь. Отвечать тебе надо было.
– Да знаю. Но не могу… и не хочу,– с ожесточённым, воскресшим в новой форме страданием, бродившим по сердцу, сказал Андрей.
– Тут ещё и эта подвернулась, как назло.
– Настя-то?
– Ну да. Где хоть ты её откопал такую!
– Так должно было быть.
– Что ты к ней привязался?
– Так нужно.
– Её тебе Алинка не простит… Её не простит. Так и до… катастрофы недалеко. Вот тут она может бить до конца. Как бы беды не было.
– Не посмеет.
– Посмеет.
– Ни за что она не осмелится.
– А я? Я-то осмелился. Что теперь делать?..
– Ты?– Андрей испуганно посмотрел на Клинкина.
– Я.
– И давно?
– Не важно. Я как-то непонятную силу ощутил. Душа задрожала, взгляд опьянел. В общем, бредятина какая-то получилось.
– Бредятина… Ты был не в себе,– успокоившись и, словно задумавшись о чём-то постороннем или потустороннем, проговорил Андрей.
– А когда я был в себе? Это-то и было моё нормальное состояние.
– Девушка?
– Да. Она самая.
– И что будет?..
– Что будет, когда Алина узнает?
– Нет…
– Хорошо… Я тебе скажу, что будет, когда она узнает. Она загорится от счастья и кинется тебе на шею.
– Не кинется. Я не позволю. Да ей и ну будет хотеться.
– Да ну! Неужели ты так уверен в себе, что не уверен в ней?
– Нет, он могла бы… Но в последний момент передумает. В таких случаях такие люди всегда передумывают лишь в самый последний момент и больше никогда. Я представляю, как она может планировать свою боль такую.
– Да уж… стерва. Стерва только вот такие стервы и любят самой преданной любовью,– мрачно, словно для себя одного прошептал Дмитрий и подошёл к стене. Он смотрел на неё, как смотрят на ненавистного человека. Дмитрии со злосьтю во взгляде ударил кулаком в стену.
– А как ты думаешь, со мной она вела бы себя точно так же?– он подошёл ближе к Андрею.– Или, вообще, бы не вела?
– Не думаю… что она поступала бы… вот так.
– Да.
– Могло быть много побочных факторов…
– Да, да… Но всё же она и тут бы что-нибудь такое выкинула бы. Состервозничала бы… А душа у неё гениальная…
– Может быть.
– Не «может быть», а точно. Мстить у неё получается лучше всего,– с интонацией мазохистского наслаждения сказал Дмитрий, запрокинув голову чуть назад.– Это незаметно для неё самой грязнит её. А она-то думает, что ничего не происходит. Ей кажется, что она и без этого… дьволица.
– Нет… Тое есть да. И нет… и да. Она боится своей этой дьяволицы… И всё же… хранит её. Но она ни за что не додумается, что она себя не любит.
– И… что любит Настеньку, да?
– Они – соперницы.
– Я в курсе… что они – соперницы.– Дмитрий начал кричать так, что даже закашлялся.– Что ты меня, за дурака держишь? Что ты несёшь?
– Пожалей себя.
– А хотя, они… Как Алине может быть соперницей девица с моста. Она же, можно сказать, оказалась внизу. Вниз полетела. Волосики беленькие в воде. Только ей не до этого. Теперь ей не до чего.
– Дим, посмотри на меня внимательно… И скажу одну правду…– Андрей пугался то ли за него, то ли за себя.– Ты видел её?
– Естественно.
– Нет, постой. Что ты делал ночью?.. Где ты был? Ты видел Настю?..
– Ну заговори же ты про Ленинскую, про этот мост.
– Стой, стой… Ты видел её ночью? Ну… после того… как мы ушли оттуда?..
– Я был в аду.
– И как тебе?
– Выиграл я.
– Ну-ка, ну-ка… Подожди… Я вижу… Точно… Я вижу по тебе, что тебя там не было. Ух, ну Слава Богу. Перепугал ты меня!
– А ей… серьёзно всё равно.
– Ты про Алину?
– Молчи. Теперь молчи… Дай собраться. У меня голова кружится! До меня только сейчас дошло. Вот только сейчас я догадался. Ты, что, про мост, про Ленинскую не понимаешь? И… даже сейчас не понимаешь?
– Что… не понимаю?
– Там на мосту… на Ленинской. Это же Настя была.
– Как Настя?– Андрей подскочил и схватился за грудь.
– Самая настоящая… Настя.
– Как Настя? Не понимаю.
– Да что хоть тут понимать!
– Честное слово… Я не знал… Я и не думал…
– Хороший ты малый, Андрюх.
Дмитрий отошёл от Яськова и открыл дверь.
С тяжёлым чувством недосказанности он спускался по ступенькам в подъезде, когда наткнулся на отца Андрея. Тот от неожиданности покачнулся.
– Здравствуйте,– сказал Дмитрий.
– Здравствуйте.
– Бегите к сыну, бегите. С ним беда может произойти,– звонко захохотал Клинкин и побежал вниз.
Сердце Кирилла Егоровича, словно, обледенело, когда он в страхе подкрадывался к комнате Андрея. Тот с неподвижным взглядом, направленным к окну, и с неподвижной душой стоял посереди не спальни.
– Андрей… всё хорошо?– неловко спросил отец.
– Да. Всё нормально,– Яськов обернулся на голос Кирилла Егоровича.
– Я видел…
– Он всегда такой. Не задумывайся ни о чём.
– Ладно. Если что – зови. Я буду в зале.
– Ага.
Отец вышел, и Андрей мигом бросился к столу, где лежал его сотовый телефон. Он поспешно стал искал номер Насти, но к своему удивлению ни страх, ни отчаяние не овладевали его сердцем. Его сердцем владела необъяснимое, убеждённое спокойствие. Яськов позвонил. Настя не ответила.
Его спокойствие стало ещё крепче. Андрей с воздушным сердцем лёг спать, соблазнительно представляя себе картину грядущего вечера. Он непременно должен был быть символом счастья.
Глава 5. Алина: миссия спасения
Яськов проснулся в час дня и мучился от издевавшегося над душой подвохом памяти. Он привстал с кровати и стал растирал пальцами виски, словно пробуждая то, что ещё недавно шевелило его сознание. Ему снилось что-то очень странное, но, как только Андрей очнулся, его память, точно навсегда, не желала более заполняться ароматом душистых тёмных волос и бархатом нежных, осторожных рук, чьи черты полупьяно проплывали перед глазами…
Вдруг на него напала усталость, появляющаяся после того, как мы нашли вещь, которую долго искали, и когда радуемся не тому, что нашли, а тому, что нашли. Андрею не надо было закрывать глаза, чтобы вновь увидеть перед собой ласковый женский облик, уплывающий вдаль и исчезающий в гуще туманного мрака.
Сознание Яськова плелось по сухому асфалтьу, чего-то боясь и оглядываясь назад, видя за собой лишь длинную, змеинообразную тропинку. Сердце Андрея трепетало. Он чувствовал, что ему надо было повернуть направо, где едва проглядывались очертания высоких, чёрных деревьев, но он пошёл налево, туда, где было посветлее. На пустынную дорогу оранжево-мутно смотрели фонари. Они казались Яськову выше, чем те чёрные деревья, и он пошёл быстрее и увереннее. В его душе что-то защекотало, и Андрей увидел, как из него выбежала тень. Сначала он не мог понять, что это значит, пока каким-то нутром сердца не догадался, что в этой тени содержалось нечто, ему принадлежавшее и его дразнившее. Он побежал за ней. Удивление росло по мере того, как он к ней приближался. Яськов не думал, что сможет догнать её так скоро. Он вторгся в тень и, замирая от страха, вскочил с кровати и пошёл к окну, отворил форточку и глотнул уже нагревшегося, весеннего воздуха.
Он почувствовал, что весь мир пронёсся над его головой, как неуловимое привидение зла, как призрак неуловимой боли.
Андрей, усмехнувшись, взглянул на ладонь. Ему стало мерещиться, как линия жизни делится пополам какой-то чёрточкой, всё сильнее захватывавшей рассудок Ясьтова. Ему казалось, что это чёрточка и есть вся его жизнь, а то, что от неё исходило по обе стороны – умирание жизни, но разное и по длине, и по грузу мучений, давивших Андрея. В этой
чёрточке сосредотачивалась переломная суть бытия, ему предназначенного. «Злодейство… людское… как же оно на меня давит!»– думалось ему.
Андрей рассмеялся и подмигнул, словно этой чёрточке.
Ему вдруг стало до боли свободно и равнодушно. Такое полузабвение душевного состояния посещало Андрея не впервые. В эти минуты он всегда проверял, насколько сильно было его прежнее страдание из-за смерти Ольги Николаевны. Теперь он начал вспоминать похороны, но душа не тяжелела. Яськов чувствовал, что он не страдал. Это было иное ощущение иного сердечного помешательства. Сейчас уже он, как будто летал над миром.
Но воспоминания о похоронах этот полёт чуть замедляли и нависали над Яськовым грузной тучей загадки. Он не знал, как расшифровать свои чувства. Похороны впечатались в его сердце странным образом. Он, словно и не помнил это события, а помнил лишь чувство от этого события.
Страдание стало самой охраняемой им самим детищем его души, так, как, когда он не страдал, то ощущал себя непозволительно далеко от матери. Чтобы чувствовать её близость, ему нужно было мучиться.
Облегчением терзаний могло быть общения с отцом, но Яськов неловко избегал говорить с ним подолгу, отчего-то ощущая вину и перед ним, и перед самим собой; и за него, и за себя самого. Тут явилась крайне наивное и слишком благородное «незнание дальнейшей жизни». Андрею хотелось разоткровенничиться с отцом, но он злился и мучился от того, что, как ему казалось, не имел на это право.
Временами Яськов не страдал о матери из врождённой страсти размышлять. Он много думал о вере и о вере в Бога, что приводило его к безжалостному самоистязанию. Но Ольга Николаевна от него почему-то вновь отдалялась… Он не страдал и мучился от того, что не страдал. Почему он не терзался: вследствие бескрайней веры в Бога или от нежелания страстей? Ответы мелькали перед ним разные… «Не устал ли я от Бога?.. Не надоел ли я Ему? Не устал ли Он от меня? Верит ли Бог в меня?»– ежеминутно думал Андрей.
Он начинал ковыряться в ране, опять упрекая себя в том, что мало страдал об Ольге Николаевне. Так он проводил несколько дней подряд и со свежим сердцем вновь легкодушно общался с друзьями.
Он настойчиво верил в то, что Алина (или измениние её поведения?) подкатилась к нему, как некая справедливость (или некий вид справедливости?). Он даже не думал о том, что это могло ему всего лишь показаться.
Алина вспорхнула и прильнула к нему, как ангел любовного прозрения. Она и сама не поняла, как это случилось.
Когда слепой вдруг прозреет, находясь в полной тьме, то он не поймет, что прозрел. Так и Яськов, кружась душой по мрачному небу горя, не мог осознать того, что произошло с ним после перевоплощения Искупниковой. Он и действительно был растерян.
Военные, вернувшись с полей адских сражений, немедленно падают на землю при крике громе, по привычке принимая такой грохот за взрыв снаряда. Похожее испытывал и Яськов, когда Алина время от времени озлоблялась на него. Поле смерти матери каждая маленькая неприятность виделась ему необъятным горем. Он винил Алину и, конечно, был жесток.
В такие мгновения он любил её не меньше прежнего, но его тошнило от одного её присутствия. И чтобы не рваться, он убегал домой.
Но чаще было другое. Андрей ясно понимал, что Алина идёт ради него на такое унижение, на которое девушки, тем более её склада, не может идти, не сознавая этого своего унижения. И жалость Андрея начинала одолевать его любовные влечения. Сидя рядом с Алиной и не глядя на неё, он, чувствуя. как целуются их души, ощущал себя паршивее, чем когда он был с ней порознь.
Полюбил ли Андрей Искупникову за общие мучения? Да. Полюбила ли она его за взаимность страданий? Да.
Во время недолгого выздоровления души Андрей стал радоваться самой маленькой удаче сильнее, чем огорчался при самой большой неприятности. Он захлёбывался опьянением от чувств к Искупниковой, приближая себя к полной зависимости от движений её сердца.
Но и в такие минуты Яськов не переставал ощущать полноту её страданий. Она летала над ним, как демон любви, и, как демон муки. Происходил один характерный надрыв терзания: страдая её страданиями он острее ощущал и свои страдания. Он ощущал, что муки Алины были нравственным усилителем. Это чувство прижилось в нём весьма быстро, и Андрей не желал ал от него избавляться.
Оно не уменьшилось и после одного примечательного случая. Как-то Алина долго настаивала сходить в театр, но Яськов не соглашался, ставя оправданием свою усталость. Наконец, ему надоели разговоры с Искупниковой про театр, и он решился с ней сходить.
– Пойдешь?– дерзко спросила Алина
– Пойду…
– А я уже с другим иду!
Весь тот день он любил её наиболее самозабвенно и нежно. Он осторожно возбуждал в себе это чувство, боясь, что оно может быстро его накрыть, и он захлебнётся. Но и тогда её страдания били ему в душу сильнее, чем ей самой.
Вкупе все эти чувства затуманивали его воспоминаия об Ольге Николаевне. Он реже стал ощущать на себе её райский взгляд. Теперь Яськов не вспоминал мать, как мы не вспоминаем о человеке, который только что сидел с нами в одной комнате и полминуты назад покинул её. После таких счастий Ольга Николаевна возвращалась. Но Андрей уже не скорбил. Он скучал.
Скучать ему довелось и после посещения Дмитрия…
Кирилл Егорович лежал на диване в зале и смотрел телевизор. Когда Андрей вошёл, он, как обычно в это время суток, плакал не из-за смерти жены, а из-за того, что ему было без неё тяжело.
– Па, мне… Алина вспомнилась… Она звонила?– спросил Андрей, зная, что Искупникова звонила.
– Да.
– Чего сказала… она?
– Она… не просила, чтобы ты ей перезвонил.
Тут из его души потекли другие слёзы: слёзы растерянности; растерянности не из-за того, что его тревожила судьба сын, а из-за того, что он не знал, как сделать так, чтобы она его перестала тревожить.
– Опять вспомнил?– с горечью спросил Андрей.
– Да… нет… я так…
– Не страдай. Не надо.
– Хорошо.
Кирилл Егорович вскочил с дивана и энергичной шагом прошёл мимо сына. Лицо отца вдруг как-то стыдливо-радостно покраснело, и он (торжествуя, что Андрей этого не видит) улыбнулся.
Тот побрёл в кухню вслед за ним.
Кирилл Егорович стоял возле открытого холодильника спиной к сыну. Он держал в руке бутылку красного вина и хотел было поставить её обратно на полку рядом с томатным соком, но слыша возбуждённое дыхание Андрея, понял, что поздно фарисейничать, подошёл к столу взял стакан и наполнил его густым, бордовым напитком.
Андрей посмотрел на бутылку, потом в глаза отцу и вылетел из комнаты. Задумавшись, он зашёл в зал.
– Ты сегодня какой-то заспанный,– звонко сказал отец, вновь падая на диван.
– Да… Заспанный…
– Не случилось ли чего?– упрёк надменности послышался в голосе Кирилла Егоровича.
– Нет… так… Устал я от горя.
– Да уж! С кем не бывает!
Затем они молчали, боясь глядеть друг на друга. Посторонний человек ужаснулся бы, видя такую картину, которая, возможно, и не нарисовалась бы судьбой, если бы они находились в квартире не вдвоём.
– А что Искупникова?– спросил Кирилл Егорович, почесав затылок.
– А что Искупникова?– пожал плечами Андрей.
– Я слышал… она замуж выходит.
– Да вроде.
– Эх… хорошая девушка… А ты тут стоишь! За кого?…
– Ты его не знаешь.
– Когда?
– Сегодня должна была. Но передумала.
– То есть… как? Как понять! Что значит «передумала»?
– То и значит. Расхотелось ей.
– Серьёзно?
– Серьёзней некуда… Кстати, пойду ей позвоню.
Яськов с облегчением и даже с удовольствием оставил отупевшего отца одного в зале. Мучения Андрея за последние несколько минут превратились почти в агонию души.
На тумбочке в коридоре лежала телефонная трубка. Он набрал номер Алины.
– Яськов, ты?..– зазвенел весенний голос Искупниковой.– Никакой определитель не нужен… Знаю, что ты…
– Я, я.
– Слышу, как ты улыбаешься.
– Это в телефоне – шум. Связь плохая,– засмеялся Андрей.
– Отошёл от вчерашнего?
– А мне бы от сегодняшнего отойти… У меня с утра… рано… Клинкин был у меня.
– Да ну!..
– Честное слово.
– Врёшь!
– Нет, не вру. Говорю же, честно.
Пауза растянулась почти на минуту.
– Подожди,– начала тараторить Алина.– Подожди, подожди. Дай подумать. Подожди, как это! Подожди, подожди. Пьяный?
– Кто?
– Ну Дима… Пьяный был?
– Да я и не понял.
– А что он у тебя делал?
– Мы разговаривали?
– Зачем?
– Ну как зачем! Зачем люди разговаривают!
– Вот дела!..
– Вот, вот!– горько и низко выпалил Андрей, словно ему было неприятно соглашаться с Алиной.
– А он сейчас где?
– Ну откуда я знаю!
– И не сказал, куда пошёл?
– Не сказал! Я думаю, мы вечером его увидим. С праздничком, кстати.
– С чем поздравляешь? С тем, что этот праздник не состоялся?
– Ах, ты об этом! Нет… С днём победы!
– Точно! Победы! Просто выигриша настоящего!
– Он сходит с ума.
– Ничего… Не угрожал тебе?
– Нет.
– Ты боялся его или нет?..
– Он был страшный. Действительно, страшный. Я думаю, что он может себя убить.
– Ну понятно, что он к тебе не про День Победы пришёл говорить!..
– Ты знаешь, я смотрел, как в зеркало. Он был в точности, как я. В разбитое зеркало. Понимаешь?
– Да я всё понимаю. То есть не всё. Как это он осмелился!.. Как он сам-то не испугался.
– Ох, Алин, он очень боялся. Я слышал, как вся душа у него тряслась от страха. В том-то и дело.
– Ну ничего.. Ты не беспокойся. По крайней мере, до вечера он ничего не сделает… Точно… Ну ничего, Андрюх, ты сам-то не трясись.
– Я нормально.
– Встретимся вечером, там видно будет. Посмотрим, обдумаем, согласуем… Видно будет.
– Да… Видно будет. Вот… Про Настю совсем забыл. То есть… и про Клинкина… Скажи, у него с кем-нибудь… так… чтобы до свадьбы доходило… было?
– А то ты не догадываешься?
– Да. Значит, не было.
– А про сестрицу-то… Он её не хотел обижать. Это совершенно точно.
– Да я это понимаю.
– И этот разговор ещё вчерашний… Всё, как будто нарочно сошлось. Даже удивляюсь!
– Да стыдно. Перед Настей стыдно…
– Ах, тебе перед ней стыдно. А передо мной не стыдно?
– Да стыдно, Алин, всё стыдно… Ой, неприятно. Вышло всё по-пьяному. А ведь, как будто так и должно было быть. Мне даже кажется, что мир упал бы, если всё так не сложилось.
– Ты-то рад чуть-чуть, согласись!
– Ну да. Я и не спорю, Алин.
– Ладно… Сегодня-то как себя вести будешь?
– Не знаю. Я ещё не решил. И Клинкин опять же… Страшный он какой-то. А если он сегодня не напьётся. До беды дело может дойти.
– Не трясись! Не дойдёт! Он побоится сам. Только чужими руками. Ну или точно так же… своими… но… как будто не своими. Побоится он. Точно… тебе говорю.
– Дай бог!
– Ты-то сегодня точно придёшь?..
– Конечно, конечно, я приду. Да и скучно мне… дома сидеть.
– Ну, может, ты ещё куда-нибудь намылился.
– Встретимся сегодня. Не переживай…
– Ты бы приготовился потщательней. Вечер, чувствую, будет долгий и яркий.
– Я готов. Я ко всему, Алин, готов. Я уже… ничему не удивлюсь.
– И всё равно будь готов… не по-будничному,– Искупникова зло закричала и плюнула в трубку.
– Хорошо, хорошо, Алин. Ты только не кричи.
– Да если ты глухой, как мне не кричать!
– Тихо. Оксанка тебя услышит.
– А она и так слышит! Мне наплевать на неё. Пусть слышит. Пусть! Слышишь ты, эй! Оксанка! Слышишь, что я говорю? Будь готов ко всему!
– Всё… давай до вечера. Голова болит.
– Голова у него болит. Потому и болит, что ты её ничем не забиваешь!
– Ну вот здесь ты неправа. Сама знаешь.
– И что толку, что знаю!
– Всё. правда, болит. Давай до вечера.
– Ладно. Давай. Увидимся.
На этом их телефонный разговор закончился, и Андрей с чистой, лучистой душой, с обновлённым чувством свободы в окно своей спальни взглянул на юное майское небо.
Глава 6. Одинокая радость
Приближаясь к горизонту, солнце медленно засыпало, когда Яськов торопливо шёл по Александровскому мосту. Его уже ждали в кофейне.
Как и многие другие молодые люди в центре города в праздничный весенний вечер Андрей был в белой футболке, но не с георгиевсклй ленточкой, а с портретом длинноволосой смуглой женщины на груди. Чёрные туфли и чёрные джинсы придавали что-то трагическое и фатальное его внешности, всегда свойственной быть схожей с настроением души.
На сердце было светло, точно его освещал разум. Но разум, наоборот, тревожил и злил Андрея. Потому и непонятна была ему его почти полная, легкомысленная радость. Люди, шедшие по Ленинской улице не смущали и не бодрили его. Яськов смотрел на небо, лишь изредка опуская голову и поглядывая себе под ноги.
На небе тоже велась странная, как будто безысходная и безвыходная борьба. Лучи солнца резвились, но словно именно этим и пугали пышные облака, которые поспешно уплывали куда-то вдаль, приводя вечное светило в тёмно-жёлто-вечернее удивление.
Что-то боролось с Андреем, и он, увлёкшись размышлениями, вдруг вскрикнул. Ему на ногу больно наступил тучный, почти пьяный мужик, который тут же искренне извинился. Яськов слабо, со всеобъемлщим сознанием тщетности бытия улыбнулся и вяло махнул рукой, как всегда это делают люди, испытавшие на себе громадное воздействие самого низкого, сильного, дерзкого, беспощадного зла.
С этой улыбкой на лице он и вошел в кофейне. За столом у окна его ждали Искупникова, Мелюков, Дмитрий и Настя, непонятно зачем притащившая с собой чахлую, костлявую, почти прозрачную подругу. Увидев сестру Алины, Андрей радостно и легко вздохнул.
В кафе пахло женской туалетной водой и соевым соусом. Было скорее полусветло, чем полутёмно. Посетители заняли все столы, заранее их забронировав, как это делается по большим праздникам. Пьянства праздлника, однако, ещё не наблюдалось.
Яськов сел рядом с Клинкиным. Напротив них располагались остальные товарищи.
Выбрав мгновение, когда Алина повернулась к Мелюкову, Андрей бегло взглянул на неё и заметил, что помимо какой-то потусторонней даже для Искупниковой красоты, она находилась в тот вечер в бдительном, мучительном, боязливом волнении. На обычно бледных, почти сизеватых щёчках пестрел майский румянец заждавшейся страстности. Голубые глаза с жирной, чёрной подводкой горели лазурно-небесным нетерпением. Волосы чуть более пышные чем обычно. На ней была новая чёрная кофта с рукавами «три четверти» и новая чёрная, короткая кожаная юбка.
Андрей ещё раз посмотрел на неё, и они встретились взглядами. Он опять уловил какое-то бешенство в её взоре. Этому способствовала странная прелесть созерцания её глаз. Было в них что-то магическое, инопланетное, фантастическое. Чёрная подводка, словно делала её голубые глаза ещё светлее и прозрачнее.
Настя о чём-то шепталась с подругой, то и дело поправляя её красное, широкое платье. Девушка, видимо, удивлялась захлёбывавшемуся тону сестры Алины. Её лицо удлинялось и становилось ещё худее и суше. Она уже почти плакала от того, что пришла в кафе.



