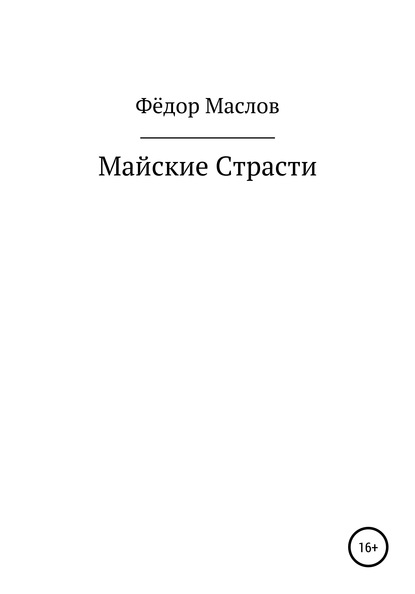 Полная версия
Полная версияМайские страсти
Андрей, охваченный чрезвычайным любопытством, вошёл в квартиру Клинкина, не поздоровавшись с ним.
– Эй, чего не здороваешься?– спросил Дмитрий, закрывая входную дверь.
– Подожди. Квартиру рассматриваю,– ответил Андрей, бегая взглядом по коридору.
– Ты же был у меня… и не раз.
– Нет… Я теперь по-другому на неё посмотрю.
Непринуждённая роскошь молодого холостяка наблюдалась в квартире. По чёрному немецкому паркету были размашисто разбросаны несколько брюк и две пары тапок. На кухонном столе стояли пять едва початых бутылок красных и белых французских вин. В пепельнице дымилась непотушенная кубинская сигара. В зале громыхала клубная музыка. Там же на бледно-жёлтых обоях виднелись красно-винные пятна, словно тени этой бессмысленной, сладострастной музыки. Несмотря на солнечное утро, во всех комнатах был зажжен свет
– Давай сядем!– Клинкин мрачным взглядом уставился на Андрея. – Я заждался тебя!
– Не смейся.
– Я не смеюсь… и не играю с тобой.
Они сели за кухонный стол.
– Выпьешь?– спросил Дмитрий, налив себе бокал красного вина.
– Если только белого… хотя… нет, не буду. Значит, вот так банковские работники выходные отмечают?
–Отстань… Как хочешь… Если противно со мной, то не пей. Дело твоё,– Клинкин с похмельной жадностью выпил вино.– На жизнь пришёл жаловаться?
– Нет,– опустил глаза Андрей.
– Конечно,– зевнул Клинкин, подвязывая поясом сальный тёмно-синий халат.– От жизни-то убежать можно, а вот от смерти… По такой жизни страшна не она, а рождение.
– Я тебя не спрашивал про рождение.
– Ну-ну… только опять не подумай, что я над тобой смеюсь.
– Неа… Я душевно к тебе пришёл… а над душой может смеяться только тот, у кого её нет.
– Молодец,– саркастически-язвительно-зло, с выпученной, голой обидой произнёс Дмитрий.– Красавец ты.
– Да не смеюсь я над тобой. Не до этого. Знаешь… У меня сейчас какое-то новое настроение. Я вчера шёл по мосту…
– Закуришь?– громко спросил Клинкин.
– Не перебивай… Вот шёл я по мосту и так мне легко было… никогда так не было. И не будет. Потому что это самая лёгкая лёгкость была. Ночь была, а мне было светло. Я сошёл с моста и думаю: «Неужели после этого я ещё чего-то посмею от жизни хотеть? Не есть ли эта
конец всему?» Такая тоска на меня рухнула, Боже мой!.. Не надо ли мне всё уничтожить?.. Вот о чём я тогда… Пришёл домой, а там пустота, и всё равно какая-то лёгкость. Так вот… Тот мостовой праздник так и не прошёл.
– Ты грешил немало. И против тебя грешили много. Отсюда вся эта дрянь.
– Да… А как ты думаешь, может ли быть грех преждевременным… или запоздалым?
– Ты про кого сейчас?.. Про себя или про меня?
– Про обоих.
– Ну не знаю… Рано ещё говорить об этом.
– Вот мне интересно, есть ли такие?– мечтательно, почти с девичьей наивностью сказал Андрей.
– Спроси.
– У кого?.. А…
– Вот-вот…
– Обидится ведь.
– А тебе не обидно?
– Наказывает Он из-за себя… Из-за своих грехов. За Его грехи мы расплачиваемся.
– Детский каприз!
– Ну и что?
– Получается…
– Получается, что и наказывает Он нас за свои грехи.
– Ну так я тоже самое говорил.
– Да что ты? А был ли ты со мной честным, как я сейчас с тобой? Или мы оба врём?
– Ну про себя-то я лгать не стану. Когда я вспоминаю свой грех, мне кажется, что все грехи человечества совершены мной одним. Когда боюсь своих грехов, то кажется, что все грехи самых страшных извергов на моей совести… только на моей… и я боюсь их.
– А вот теперь я… закурю, наверное…– как-то обречённо улыбнулся Дмитрий, взял со стола пачку «Парламента», достал из неё сигарету и закурил.– А вот теперь я тебе скажу кое-что.
Он дважды затянулся, выкурив полсигареты, стряхнул пепел в только что опустевшую бутылку из-под белого вина и заговорил:
– Ты любишь будущее? Я очень, очень люблю будущее. А любит ли будущее тебя? Вот как узнать? Есть у меня одна игрушка. Тут без щёк, как у тебя, без губ, без поцелуев. Тут абстракция какая-то. Живопись двадцать первого, а, может, двадцать второго века… а может, двадцать третьего. Всё просто… Или прощение, или непрощение. Я думаю, что грех – это такая зараза… что от него, как от инфекции нужно лечиться… Точнее, от заискивания… Это ведь соблазн. Если грехи против самого себя мучают… Надо их прощать? Скажи мне!
– Какие именно?
– Этого я тебе не скажу. Только будущее скажет.
– Не знаю.
– Не знаешь, а мучаешься. Я думаю, что нельзя прощать грехи против себя, а против других – нужно… обязательно.
– Наоборот…
– Дурак ты!
– Может быть.
– Как это наивно!
– Как ни странно, а меня чужие-то грехи мучают сильнее, чем свои собственные. Я хочу создать свою секту,– Андрей вытянул шею и заговорил шёпотом, как будто их могли подслушивать.– Мы могли бы там прощать.
– Нет, урод, нет. Что ты несёшь! Подкармливаться чужими грехами… как на паперти. Это спекулянство. Это чужое. Это больнее… Поэтому дважды нельзя… Я много думал. И испытал. Где-то неделю назад мне было так хорошо, так спокойно. И что-то вдруг начало в груди щекотать, затем рвать её,– Клинкин руками схватился за грудь и стал её сильно растирать.– Думаю, что такое? Почему так сразу тяжко стало? Я вспомнил, что как-то читал в интернете версию, что Гитлер не погиб… ничего же ведь не доказано… что он смылся в Аргентину задолго до взятия Берлина… и что там прожил ещё лет тридцать… до самой глубокой старости. И знаешь, что мне представилось?.. Что я стою на берегу Атлантического океана, а сзади – маленькая, забытая аргентинская деревушка. И вот там за этими волнами…за штормом… на другом берегу валяются в земле пятьдесят миллионов тел. А море такое голубое… и такое буйное. Ветер вокруг. Природа! А там… за волнами пятьдесят миллионов. Мне показалось, что я упал на землю… и без звука кричал. Я звал хоть одного из них. Хоть кого-нибудь. Хоть даже кого-нибудь живого. Ты представляешь какого ему было?
– Да… Полюбишь человека, полюбишь и Бога.
– Да речь не об этом.
– А о чём же?
– О равенстве, что ли?
– Так точно, начальник, ха-ха.– Клинкин вновь закурил и жестом попросил Андрея подождать.– Дай сосредоточиться. Так вот, о равенстве… значит. Конечно, не нам с тобой говорить о том, что это одно и то же… конечно, не нам с тобой говорить о том, что это – не безбожие. Мы хвалим себя за помощь. А когда вспоминаем о грехах, как ты говоришь, мой друг любезный, то мы не говорим, что их совершил другой человек… а мы корим себя, убиваемся… Что ж мы натворили! Как же так нехорошо у нас вышло!
– Бог и дьявол – это один и тот же субъект… Это ясно, ха! Пусть так, хотя я и думаю так же. А что же с человеком?
– Да Бог с ним с человеком. Нужно о запредельном думать. Человек – это пройденное. Ты, главное, не бойся. В этом нет ничего страшного… Да ты это и сам понимаешь, если посмел мне сказать такое. Посмел, потому что прошёл. Своей душой… своими руками ты потушил всё это. Не тебе рассказывать, что чтобы пройти к источнику огня, нужно проникнуть сквозь этот огонь; чтобы уничтожить этот источник и этот огонь, нужно обжечься; чтобы понять, отчего он горит, нужно обязательно обжечься.
– Так ты и до Алинки доберёшься,– тихо улыбнулся Андрей, но Клинкин уже не видел этой улыбки,– он вскочил и закружил по кухне.
– Что ты имеешь в виду?– задыхаясь, спросил он.
– Вообще… Есть хорошая пословица… Бьёт, значит любит.
– Ну и где тут источник? Что ты играешь со мной?
– А если не бьёт, значит, значит, надо простить. Почти, как Гитлера.
– Да… да… Это очень правильно…
– Она меня тревожит- пока Клинкин не глядел на него, Андрей поспешил нагнать на себя вид мучившегося мыслителя, как будто он чем-то терзался до этого весьма долгое время.– Так себя ведёт, что я злюсь на неё, представляешь? Злюсь. Что-то бьёт меня сзади. Никто так ненавидит людей, как я.
– Да брось!..
– Серьёзно.
– Да перестань ты!
– Я клянусь.
Клинкин остановился посреди кухни. Безумная, страшная улыбка, которой не видел Яськов, но мог о ней догадываться, рассветала на лице Дмитрия. С такой улыбкой люди убивают или себя, или других, или свою мечту. Посторонний, незнакомый с ним человек сказал бы, что он от счастья утратил рассудок.
– Ты меня… убил… Да… убил… Ведь это спасение. Спасение с твоей стороны. Ха-ха! Мы с тобой всё-таки разные. Как ты меня спас! А я-то думал, что это я… Слушай, а давай уйдём с тобой в монастырь… вдвоём.
– Нам не простят.
– А плевать… ты же меня спас от всего этого. Ты меня спас от твоего превосходства… так что ли?
– Ну давай ещё «спасибо» мне скажи. Это всё так… по-дружески. По-братски,– Андрей заговорил мечтательно и чересчур задумчиво, позабыв, что находится не один.– Мы же все братья. И я, и ты. Не бери в голову. Как-нибудь и ты мне поможешь. Точно поможешь. Поверь это обязательно будет. Я даже сделаю так, чтобы…
Андрей хихикнул и продолжил:
– Да и без меня это будет. Не переживвай. Это я тебе совершенно серьёзно говорю.
Пока Андрей разглагольствовал, Дмитрий успел схватить со стола пустую бутылку и подошёл к Яськову сзади. Он открыл рот, словно готовясь крикнуть боевой клич. Клинкин стоял так полминуты, пока Андрей не замолчал. И только, когда Яськов перестал говорить ужас решимости сбежал, словно от страха, с его побелевшего лица. Что-то фатальное не давало подняться его руке. Он громко поставил бутылку на стол. Андрей оглянулся.
– Всё выпил?– спросил он.
– Ещё не всё.
– А я бы на твоём месте всё выпил,– Яськов вновь с задумчивостью во взгляде отвернулся.– Ты не думай… Я… Я тебе всё совершенно откровенно сказал. Нам бы только почаще понимать друг друга и мы точно станем друзьями… ведь братья – не всегда друзья. Мне сейчас почему-то кажется, что ты мне – друг, а я тебе – нет… нет, не друг.
– Смотри не накаркай. Могу и заскучать. Остренького захочется. А я готов на любую низость, лишь бы выглядеть трагически.
– Нет, я не верю
– А придётся. Я заставлю тебя поверить.
– Нет. Я сейчас не верю ни единому твоему слову.
– Сейчас? Ладно… Сейчас и не время. Ты спешишь куда-нибудь сейчас?
– Да… Я пойду.
– Ага…– Клинкин громко зевнул.– И мне отдохнуть надо.
– Придёшь ко мне завтра?
– Приду, приду… А сегодня-то вечером…
– Во дворах. Но ты…
– Я, может быть, появлюсь… ненадолго.
– Я думал, что тебя не будет.
– А ты не думай. Так что, может, прощаемся не до завтра, а до вечера… сегодняшнего.
Андрей встал и направился ко входной двери.
– Стой,– крикнул ему Клинкин.– А ты в Бога-то веришь?
Яськов, не глядя на Дмитрия, махнул рукой и стал обуваться. Клинкин долго и хрипло хохотал. Андрей начал чрезвычайно торопиться, когда завязывал шнурки. У него тряслись руки. Клинкин проводил его с неизъяснимой злобой боли во взгляде.
Глава 2. Девчонки пошли за покупками
У Искупниковых было неспокойно. Алина, о чём-то улыбчиво думая в своей комнате, слышала, как внизу брат ругался с Оксаной.
На лазурном небе сверкала улыбка свежего мая. Так свободно и легко было Алине, что она чуть не со злостью открыла дверь спальни и спустилась к супругам.
– Ну и что у вас здесь происходит?– выдохнув, спросила она.
Оксана была в нарядном, коралловом платье, подол которого едва доставал, словно смущаясь, до её гладких колен. Она держала в руках помаду и тушь, собираясь накраситься и выйти на улицу.
– О, наконец-то. Займись сестрёнкой, а у меня дела,– сказала она мужу и пошла к зеркалу.
– Ты ей краситься, что ли, мешаешь?– уголки рта Алины приподнялись, как и в её душе приподнялась волна новой, неведомой доселе злости: капризной злости, скрыто оправдывающей грубость того, против кого она направлена.
– А куда она собралась? Вечно шляется где-то. Даже я не могу уследить за ней.
– Успокойся. Она со мной по магазинам.
– И ты туда же!– ещё сильней закричал Роман.
Послышался густой голос Оксаны:
– Ой, побереги… побереги силёнки. Глядишь ночью пригодятся для кого-нибудь.
– Уж не для тебя. Не надейся
– Вот дурак. Я и не надеюсь. Точнее надеюсь, но не это, идиот.
Оксана, накрасив губы бледно-розово-перламутровой помадой и нанеся на ресницы тушь, подошла к Алине и попросила теней. Искупникова достала их из сумочки и с каким-то радостным ожиданием в душе рассталась с ними.
– А ты Ромочка… не скучай без нас. Может, тебе девок вызвать? Детей только жалко. Им-то как всё объяснишь?– снова послышался голос Оксаны, которая опять стояла возле огромного зеркала с часами.
– Шла бы уже, надоела. Я тебя уже минуту не трогаю.
– Не трогаешь? В том-то и дело, что ты меня только, как любовницу трогаешь! Подавись же жёнами своими настоящими! Наслаждайся с ними, если с мной не умеешь!
Она бросила тени на пол и смачно плюнула на них. Алина, услышав глухой звук, сжалась, как если бы кто-то громко и неожиданно ей крикнул на ухо. Искупникова искренне и ненарочно-кокетливо засмеялась.
– Пойдём, Алин,– быстро пройдя мимо неё, сказала Оксана.
Роман схватил сестру за руку:
– Подожди.
– О-о, начинается,– Оксана тряхнула головой.– Я тебя на улице подожду.
– Хорошо,– сказала Искупникова.
Услышав, что Оксана хлопнула дверью, они с любопытством взглянули друг на друга.
– Ты-то куда вырядилась?– ненатурально улыбнулся Роман.
– За покупками… тебе же сказали.
Алина в то утро выглядела ещё эффектнее Оксаны. Свечи страсти в потемневших лазурных глазах, томно-нетерпеливая полуулыбка приподнятых уголков рта; бледность-усталость на шёлковой коже полууоткрытой груди, золотая цепочка и крестик, подножием, как карликовым копьём, опускавшийся туда, где едва начинают подниматься упругие холмики эротики; белая футболка и короткая белая юбка с чёрным поясом выдавали утончённое, нежное настроение опытной любовницы. Во взоре блестела чувство какого-то отдалённого, нездешнего вожделения. Ей явно хотелось уйти куда-то.
– Надолго?– грозно спросил брат.
– Не знаю ещё.
– Смотри за ней,– он по-боксёрски потряс кулаком.
Оксана успела вызвать такси, когда Алина вышла к ней на улицу. Они сначала, чувствуя, что надо устранить паузой, предыдущие волнения, молчали и глядели на небо.
– Угрожал?– спросила Оксана.
– Тебе,– не выдержав, хихикнула Алина.
– Кулаки показывал?
– Показывал..
– Идиот. Думает, что по мужикам поеду. Больно надо…
– Да ничего он не думает.
– Думает… серьёзно тебе говорю.
– А согласись, тебе бы этого очень хотелось? Может быть, и думает. Я, что, должна собственного брата выдавать?
– Да ничего ты мне не должна.
– Если он и думает что-нибудь в этом роде, то никому не скажет, уж поверь мне… а вот такси подъезжает.
Они пошли навстречу бесшумно ехавшему серому Renault.
В то субботнее утро центр города по-похмельному заполнился праздными горожанами, большая часть которых спала всего несколько часов после вчерашнего торжества и с ещё не выветрившимся алкоголем и алкоголем бодрствования шатались по Ленинской улице и по Ленинской же площади, как будто тоже ещё не проспавшимися от ночного майского безумия.
И солнце, и усталый ветерок с удивительной вялостью созерцали немного тупоумную оживлённость городского люда. Уши Орла утомлённо прислушивались к стуку каблуков дамских туфелек и зычному гоготанью полупроспавшихся молодых мужчин.
– Ничего мы тут больше не купим,– немного хрипло сказала Оксане Алины, делая глоток минеральной воды из бутылочки. В руках они держали по большому пакету женской одежды и нижнего белья.
– А тебе что-то нужно… да?– с нескрываемой хитрецой приподняла Оксана тоненькие брови так, как это у неё получилось впервые в жизни. Только у неё это и получилось.
– Да… Андрею надо купить подарок. У него завтра день рождения.
Они спускались по Ленинской улице к Александровскому мосту.
– А-а,– протянула Оксана.– И что будешь покупать?
– Да не важно. То есть… Надо в «Гринн» ехать. Я хотела бы… Да дело не в самом подарке… Тут отношение.
– Внимание?
– Да не то чтобы внимание… У меня какое-то предчувствие по поводу завтрашнего. Понимаешь, я даже чувствую… знаю, что я сегодня из-за наверняка не усну. Я и боюсь, и хочу, и волнуюсь. Что-то страшное может произойти. Всё сразу целиком на меня как-то навалилось, скопилось… дело не в подарке. Я могла бы ему вообще ничего не дарить… Это бы никак не изменило нас. Но тут всё по-другому… как будто по-другому…
– Этот праведник не доведёт тебя до добра,– сказала Оксана, щурясь и вглядываясь вдаль, словно что-то хотела там напророчить.
– Ох, знаю. Но тут я виновата.
Две девушки, как два магнита, притягивали внимание не только мужчин, но и женщин, которые с ещё большим, чем их спутники, интересом смотрели на этих таких удивительных, и таких разных красавиц с почти прямо противоположным эстетством сладострастия: хрупкая, с нежно-коралловыми губками, томно-затаённая Алина и высокая, с мягко-воздушными грудями, с крупными, сильными бёдрами, открыто-утомлённая Оксана. Странное впечатление создавалось. Искупниковы были, как два солнца: солнце дня и солнце мрака.
– Наверное. Но ты, действительно, что-то предчувствуешь?– поджала губы Оксана.
– Да,– помрачнела Алина, и они молча дошли до конца моста.
Оксана, даже не глядя на Искупнкиову, сердцем интуиции чувствовала, как та побледенла. И действительно, губы Алины вдруг превратились из ярко-алых в бело-бежевые. Её ответ, а точнее, голос, каким он был дан, сильно озадачил Оксану.
Подходя к площади Ермолова, Алина по-родственному коснулась горячего локтя Оксаны и, пытаясь, её успокоить, сказала:
– Давай сейчас присядем… Что там нам с Ромиком-то делать?..
Они подходили к пустой лавочке на площади. Говор молодых гуляк заглушался громким, субботним матом автомобилей. Оксана, несмотря на гораздо белее убедительный, чем у Алины, вес молодого тела, с невидимой лёгкостью её обгоняла. Искупникова еле поспевала за женой брата. Оксана, больше эффектная, чем красивая, хотя красивая больше, чем утончённо-женственная, провела ладонью по верхней части груди, той её части, которая не покрывалась воздушной тканью платья, которая, как увлажнившиеся глазки несчастной кокетки, перламутрово заблестела под обезумевшим солнцем.
– Что ж нам с ним делать!– присажимаясь, тонко воскликнула Алина и закусила нижнюю губку, которая тотчас побелела, но через мгновение стала чересчур насыщенно-алой.
– Не знаю… Пошёл он к чёрту!– сидя вскрикнула Оксана.
– Ну подожди… Так нельзя.
– Дурак он… вот что! Я извиваюсь… а он… дурак и ничего больше. Просто дурак! Я могла бы за его спиной ещё не такие дела вытворять. А всё-таки хорошо, что он настолько глуп, что ничего не понимает. Для него хорошо.
– Хорошо, что он и обо мне не всё знает.
– Всё он о тебе знает. Только виду не подаёт,– с отвлечённым оживлением сказала Оксана, высунула кончик розового языка и двумя длинными бледными пальцами убрала с него песчинку.– Тьфу, ты… ветер проклятый занёс. Откуда хоть он? Когда хоть закончится?
– Ох, стыдно… Я про себя,– Алина по-мученически вскрикнула и закрыла лицо руками.
– Да ладно тебе… не умрёшь.
– Что… он теперь?
– Кто?
– Да Ромка!– Алина влажно цокнула языком
– А-а… Я думала ты… ха-ха! Да ничего… Он меня не бросит. Я хочу этого, но он меня не бросит не по той причине, по которой я хочу, чтобы это всё было у нас. Неудобно ему перед друзьями будет. Понимаешь?.. Статусная я девица. Высокая, стройная, сексуальная. Со мной рядом и он как будто, выше и круче становится, понимаешь? Он и полюбил меня, потому что меня другие любили. Ведь это как дважды два… Надоело…
– А друзья-то всё понимают.
– То-то и оно… что понимают. А он глаза выпучит и смотрит, как олень… как дятел какой-то, тьфу, зла на него не хватает. А по ночам… Как придвигается ко мне… как будто, я его вот-вот ударю или укушу. Боится невозможно как! Порой смотрю на него по утрам, когда настроение такое знаешь… бедное, что ли! Или по вечерам он ещё таким может быть! Ну вот, смотрю на него… Сидит на стуле, голову опустил, о чём-то тяжело думает. Моргает, реснички такие белесые.. хлоп-хлоп… как ребёнок он, понимаешь? Ручки свои большие сложит на коленках и думают так, что забывает, что я рядом… а я-то смотрю на него.
Оксана сама о чём-то тяжко задумалась. Её круглое, славянское, портретно-аристократичное лицо с немного впалыми, настолько, насколько это необходимо для крупной женщины, чтобы не казаться крупной, щеками, не очень пухлыми, из-за чего были видны косточки под её бледно-жёлтыми висками, выражало самую мучительную, даже мученическую непритворность. Испарившаяся, как будто под солнцем страдания, влажность груди сменилась матово-томным мрамором тревожного спокойствия. Ветерок флиртовал с тонкими, как паутинки, волосами Оксаны и ласкал ими её бархатное лицо. Верхняя и нижняя губки были сомкнуты с аккуратной нежностью, словно целовали друг друга. Груди, точно в противовес им, со страстной неторопливостью приподнимались, как медленные волны.
– Ничего бы я не изменила,– усмехнулась Оксана и слегка вульгарно запрокинула мощное правое бедро за левое.– И пусть всё катится к чертям.
– Дура.
– Ой, и ненавижу его, и жалко мне его,– она вдруг замолчала и схватилась за грудь, боясь, что, если будет продолжать, то голос выдаст рвавшееся из души рыдание.
– Не могу,– спустя минуту холодно сказала она.– Не знаю, как мне дальше жить со всем этим.
– Попробуй жить с кем-нибудь другим,– уголки рта Алины по-прежнему задорно приподнимались. Оксана с напускной завистью взглянула на неё. У девушек, имеющих такой же рисунок губ, как у Алины, приподнимающиеся уголки рта, когда эти проказницы разговаривают даже чуть-чуть насмешливо, делают особые, игривые едва заметные складочки, как будто немного взъерошивают ткань окраин щёк, так наивно прилегающих к этим опасным губам.
– Ага, конечно,– снова усмехнулась Оксана.
– Не нравится?– Алина, на миг задумавшись, убила комара на своей худеньком, нежном, точно электричеством атласа пронизанном левом бедре.
– Роме не нравится… Он же не муж, а какой-то… он же не со мной живёт… а с моим кольцом обручальным. С моим согласием.
– Да пусть живёт… не всё сразу. Москва не сразу строилась. А твоё согласие… это уже что-то. Он его принял, кстати. А это уже… немало.
– Вам, может и немало, а мне мало. Потому что гордости у вас нет
– Ну, да… Зато у тебя её хоть на хлеб намазывай.
– И намазываю,– по-дружески раздражилась Оксана и кивком головы стряхнула с глаз паутинку завечеревших волос, которые в этой маленькой пряди виделись не чёрными, а тёмно-коричнево-карамельными.
– Я тебе дело говорю. Дальше всё будет лучше. И этих не будет.
– Ты про любовников? Не понимаешь ты замужнюю женщину. Для чего нужен любовник? Да чтобы мужа заставить ревновать… чтобы Ромка не был таким хлюпиком… чтобы в нём сила проснулась. Я не хочу его видеть таким, какой он сейчас. Я его растормошить всеми силами своими хочу.
– И что же… так было всегда?
– А чёрт его знает,– с напускной злобой в голосе и жесте, Оксана резко отвернулась от Алины.– Наверное, да. Хотя… мы раньше… раньше он со мной жил, а теперь, скорее я с ним живу. Я! Я!
Оксана несколько раз больно ударила себя кулаком в грудь, так что послышался неприятный, глухой звук.
– Тихо, не кричи,– обняла её Алина.
– Ага… ладно.
– Пожалей себя… и его. Не сгорайте так!
– Да, это правильно.
Подул довольно сильный ветер и, впитав в себя запахи двух красоток, словно разнёс эти аромата по площади Ермолова, как сладострастную смесь жаркой, нежной, цветочной пудры загорелой горячей груди; мягкого, малинового тепла той части шеи, которая скрывалась под душистыми волосами Оксаны, и яблочный, кисло-сладкий, влажный вкус губ Алины.
– Не знаю, что тебе ещё, сказать, Алин. Я сама в себе запуталась. Вот сижу сейчас и не знаю, кто я. А ещё что-то от Ромы требую. Я сама дура из дур. И негодяйка, каких мало. Не знаю, что делать. И с Ромкой, быть, наверное, не могу. Не буду его больше мучить. Как он может со мной жить? Я такая неуклюжая. Как можно поладить с человеком, у которого с самим собой такой разлад! Беда!
– Ты не рви душу…Только не рви себе душу, Оксан. Всё наладиться. Всё будет хорошо, я уверена. Лишь бы вы поняли друг друга. Ведь это так легко. Но это очень много. Ты не переживай! Ох, и я дура. Сижу тут с тобой… разоткровенничилась. А мне надо было бы отлупить тебя хорошенько! Ой, хоть и ссоримся мы всё время с тобой, а всё-такие хорошо друг к другу относимся. И ладим мы с тобой нормально, когда надо. Видишь, и сейчас, как сёстры. Вам бы только сблизиться, и всё у нас будет хорошо. Я, вообще, должна здесь с тобой ругаться, а я так изливаюсь… Ты знаешь…– Алина нехорошо вздохнула и помрачнела, схватившись за бледную, холодную грудь,– мне страшно. Очень уж я большая. Нельзя быть такой большой. Ты думаешь, что надо ребёнком прикидываться?.. Нет. Слишком много меня в этом мире. Я мешаю другим. И ещё от этой огромной дряни я могу столько дарить добра, что оно станет злом, потому что нет людей, которые бы могли его вместить в себя. Оно выльется из них. И захлебнутся можно…



