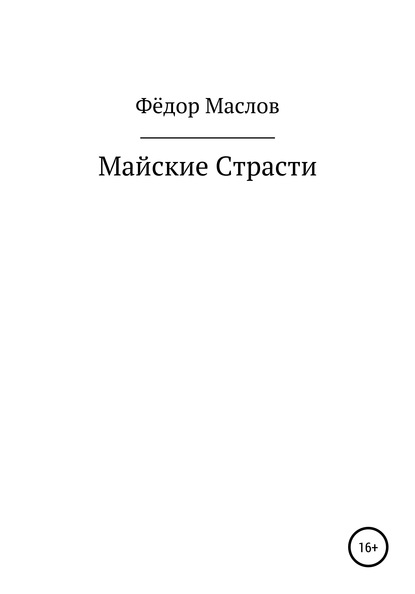 Полная версия
Полная версияМайские страсти
– Опять?
– Где сегодня ночью была?
– Боже мой!
– Дома?
– Ну а где ещё!
– То-то же, любимая!– Ему, наконец, удалось поймать равновесие, и он, щурившись, смотрел в глаза жене.
– Клянусь, что здесь была…
– Верю.
– Что-то не верится,– Оксана повернулась к Алине и взглядом показала на лестницу, но Искупникова осталась.– Что-то не верится…
Оксана съежилась, как от холода. Алина улыбалась всё отчётливей.
– Водка есть?– вновь пробормотал Роман.
– Не дам… даже если бы и была,– вновь приблизилась к мужу.
– Ну, жёнушка, ты у меня просто цветочек… Я же убью тебя сейчас.
– Ага.
– Честное слово.
– Давай я тебя уложу, а?.. Вечером давай поговорим, хорошо?
Алина усмехнулась:
– Ах, вот что у вас происходит! А я-то дура думала.
– И тебя убью,– зарычал на неё Роман.
– Ну да… Конечно… Чего же от тебя ещё ожидать. Весь город пустой! Весех уничтожил!
– Ты!.. На меня такие слова! Да я… Да я … В тюрьме был.
– Ох, не напоминай, и так тошно… тебе! Без тюрьмы.
– Мне?
– Нет, мне.
– Ты со мной так говоришь?.. Я не понял.
В этот момент Оксана чуть отступила от них. Она выглядела растерянной, причём, судя по её отвлечённому виду, не от разговора брата с сестрой. На шёчках её, как будто вспыхнул огненный, предморозный закат. Губы зарозовелись.
– Остановитесь оба!– вскрикнула она.
Роман, казалось, протрезвел; Алина, казалось, опьянела. Они раскрыли рты и ждали.
– Ты замолчи, потому что, ты – подлец пошлый… А ты, моя дорогая… Ты тоже молчи, как и твой братец. Ты ведь прекрасно знаешь, что здесь происходит. Какое болото тут растёт на твоих глазах! Ты ведь прекрасно знаешь, как я должна себя тут вести… Как же!.. Твой брат – настоящий спаситель… Ведь он же нарочно на мне женился, урод, чтобы я была ему благодарна!
Алина, пожав плечами, тихо, коротко охнула, словно от удивления, и быстрыми шагами пошла к себе в спальню. Роман тоже пожал плечами, чуть не завалился на Оксану и побрёл к дивану, где проспал до вечера. Его жена, как на бис, ещё некоторое время громко-страдальчески дышала, смотря на невидимого зрителя, и, согнав закат со своих лепестковых щёчек, до сонливости умиротворённая пошла наверх к детям.
Роман уже не слышал её тяжёлых шагов по лестнице. Он увидел жену только вечером, когда та расставляла на стол посуду к ужину. Искупников на супругу старался не смотреть, тарелки не бил. Куда в седьмом часу вечера ушла Алина, они не поинтересовались.
Г
лава 4. В сумерках
В спальне было всё так же, по-ночному темно. Взгляд Дмитрия что-то без устали искал в комнате, словно мрак не мог быть его единственным спутником.
Уже минут десять Клинкин лежал, напряжённо размышляя:
«Где это всё? Где все эти люди? А хочу ли я опять их видеть?.. Прав, прав был этот… слащавенький. Ростовщик душ проклятый! Прав был он.. когда сидел тогда на подоконнике, ха-ха… под луной. И этот… который на меня так похож… Где он? Где я? Боже, подскажи! Как они все вертятся… Ох, никогда я так не хотел любить, как сейчас. А это и не впервые со мной. Разве ты не помнишь? Почему я должен быть подлецом, чтобы быть модным? Ну скажи, почему я обязательно должен быть подлецом, чтобы любить?.. Почему я не могу любить так, как я по-настоящему люблю? Почему не могу броситься на шею при встрече, расцеловать, расплакаться от счастья и души, сказать как я её люблю, как я всех люблю! Эх, тот мост проклятый всё портит… и Андрей. Тот мост, тот мост… Я убью его. Я уничтожу его и обломки в реку выброшу. Не схожу ли я с ума? Но я избавлюсь, отрекусь от него… Мне бы вот… только приодеться, как положено.»
Дмитрий вскочил с кровати и, не включая в спальне свет, открыл дверь, затем пошёл в коридор. В голове жужжало опьянение. Мысли спотыкались и падали друг на друга.
В коридоре он включил свет. На тумбочке лежал чёрный пиджак, чёрные брюки и белая рубашка. Клинкин быстро переоделся и с непривычной аккуратностью причесал волосы.
…Дмитрий брёл по шершавому тротуару, к своей радости не встречая прохожих. На улицах было пусто, на небе – пустынно. Это тучи вдруг легли под месяц и звёзды, словно оберегая их для следующей ночи. А эта ночь почти сгорела. На востоке открывала глаза предрассветная синева, тонкой полосой распластавшись над горизонтом. На дне ночи вскоре должно было очнуться утро.
Клинкин вошёл в подъезд пятиэтажного дома. Он побежал по лестнице. На четвёртом этаже он постучал в одну из дверей. Ему открыли.
Аромат женских духов манил за собой по коридору налево. В спальню. Дмитрий хорошо знал эту спальню.
Он встал посреди комнаты и разулся, бросив свои туфли в угол. Его белокурая мечта, как наваждение, зловеще лежала на кровати, блаженно постанывая. Клинкин начал расстегивать рубашку.
Два чёрных глаза, как два глаза ада, смотрели на него и горели страстью насыщения. Дмитрий бросился на девушку и руками злобы схватил её за шею.
Клинкин не слышал криков, точно он и его хозяйка находились в разных мирах. Дмитрий душил девушку. В глазах стоял туман страха самодовольного и самоудовлетвоярющего. Лицо красавицы сменилось лицом предсмертия. С губ слетели алые лепестки желания. Она побледнела.
Только теперь Клинкин заметил, что девушка была в белом халате, шелковым, как её утренняя кожа. От волос запахло ландышами. Белый саван агонии упал на её личико. Из носа, как чернила души, потекла густая, багряная кровь. Холодком насмешливой улыбки повеяло от лица девушки. Глаза прищурились. Казалось, сама смерть перестала сопротивляться рукам Клинкина. Дмитрий беззвучно засмеялся. Он поборол жизнь и смерть, чувствуя себя творцом бытия и творением небытия. Его губы в упоении приближались к чуть приоткрытым губам красотки.
Лунные волосы расползлись по подушке. Окровавленные губы искали поцелуя. Клинкин почувствовал их горячее вожделение. Он вытер кровь и снова поцеловал блондинку девушку в губы. Свои языком он ощутил язык тонкой, сладкой нежности.
Руки Дмитрия вновь вцепились в шею несчастной девушки. Она закрыла глаза, как будто не желая видеть то, что с ней делают. Легкокрылый, как поцелуй, из её груди вылетел тихий стон. Дмитрий убрал руки. Он сорвал золотую цепочку с крестиком с шеи белокурой красавицы. Клинкин сильно сжал украшение в руке. Он подошёл к открытому окошку и выбросил цепочку с крестиком на улицу.
Облако ситца влетело в комнату. Клинкин оглянулся, словно он был способен слышать, как это произошло. Дмитрий что-то начал предчувствовать. Он, наскоро обувшись, выбежал из спальни и через полминуты был на улице. Синева переместилась с края неба на город. Вслед за костром месяца и звёзд потухал и костёр ночи.
Клинкин вспоминал недавний облик девушки, и она стала ему казаться ещё милей, чем несколько мгновений назад. По противоположной стороне улицы пробежала девушка в белом платье. Ему сначала подумалось, что это была она. Но случайная встречная оказалась брюнеткой, и Дмитрий вновь неровно побрёл по тротуару.
Что-то скользнула сзади по его шее. Клинкину почему-то померещилось, что это ситцевый платок. Он оглянулся. Это был всего лишь ароматный, синеватый шёпот ветра. Дмитрий чувствовал, как за ним приглядывает надменное, неморгавшее око содеянного. Он и сам старался не моргать и смотрел куда-то вперёд: то ли в будущее, то ли в вечность.
На кровавых обочинах зрения то и дело появлялась невеста в белом платье. Клинкин в эти мгновения слышал чей-то смех. Это смеялся либо он, либо она, либо они вместе. Ситцевое молочное облако опустилось на его голову. Сзади кто-то заплакал, в лицо выплеснули будущее…
Солнце только что вынырнуло из глубин ночи, когда он очутился у дома Яськова. По пыльному асфальту мимо него бежали на работу люди.
– Эх,– задористо крикнул Клинкин.
Весёлое отчаяние улыбнулось на его лице.
– Вот сейчас-то мы с тобой и поговорим… мой верный надзиратель,– оскалился Клинкин. Он на мгновение схватился за голову.
Андрей жил в квартире на первом этаже. Он открыл Дмитрию и впустил того в прихожую. На Яськове были чёрная футболка и белые шорты,– дома стяла невыносимая духота.
– Твой отец дома?– спросил Клинкин.
– Ушёл только что.
– Хорошо,– сказал Дмитрий и, не разуваясь, торопливо пошёл в комнату Андрея.
Через пару мгновений появился там и Яськов. Он закрыл дверь в спальню.
– Ты спал ночью?– стоя к нему спиной, спросил Дмитрий.
– Конечно, нет.
Окно выходило на запад. В команте было сумеречно, синевато. Полярная тишина дрожала в спальне Андрея.
Дмитрий как-то неряшливо осмотрел комнату.
Вдоль одной стены стояла кровать, вдоль противоположной – шкаф с книгами. На письменном столе у окна чуть в стороне от разбросанных тетрадей виднелись иконы: Пантелеимона, Дмитрия Солунского и Господа Вседержителя. Лишь возле горевшей свечки кружил ореол света и тепла.
– Да… идеальное место для самоубийства…– заложив руки за спину, проговорил Дмитрий.
– Я заждался тебя.
Клинкин оглянулся и с болью в голосе сказал:
– Извини…– он посмотрел на свои ладони и поцеловал их.– Я был занят всё это время.
Дмитрий повернулся и исподлобья, как из-под тяжелейшего груза душа, посмотрел на Андрея. Яськов вздрогнул от чрезмерного удивления.
– Зачем ты пришёл?– спросил он.
– Разве ты так быстро перестал понимать всё… Из-за чего я пришёл? Разве ты тебе так быстро расхотелось меня видеть?..– плечом задев Андрея, Клинкин сел на кровать. Яськов пошёл в угол, как по привычке.
– Я думал, ты со мной будешь честен до конца.
– Странно как-то…– Дмитрий оглядел комнату.– Вот скажи мне, Яськов, тебе никогда… не казалось, что вот в этой комнате хранится что-то переворотное? Вот, например, когда президенты, короли всех самых сильных стран собираются вместе и решают судьбу мира, к этой гостинице, ну или там… дворцу… или резиденции… не знаю, где они там обычно встречаются… так вот, к этому месту подъезжают сотни машин, журналистов, фоторепортёров, и все ждут весточек, смотрят на свет в окнах. Все ждут заявлений этих монархов, все хотят пройти внутрь. А, вот, тебе не кажется… что именно здесь, в этой комнате, а не в позолоченных резиденциях, может вершится… судьба человечества?
– Здесь? Нет, здесь… не кажется.
– Я так и думал, что не здесь. А согласись, что и здесь что-то происходит, творится. А хотя… не принимай во внимание, это всего лишь похмельная ерунда. Так голова болит, что хочется… умереть,– звонко окончил Клинкин и резко поднял глаза на Андрея.
– Умереть?
– Ты никогда не слышал, что люди умирают? Ах, да… На тебя это похоже. Жизнь, конечно, заманчива… Но стоит ли жить, когда ждёшь избавления от тоски, когда хочешь умереть, потому что скучно? Вот бывают люди! Тебе не скучно от таких людей?
– Ты опять стал со мной не до конца откровенным.
– Жаль… Что ты так! А мне таких людей жалко. Они даже не понимают, как смешно выглядят со стороны. Как они неуклюжи, неловки! Какие они бездарности! Они специально каким-то магическим способом вычисляют дату смерти, готовят уже мыло с верёвкой и только ждут. Живот болит от смеха! Зная, что умрут завтра, они хотят умереть сегодня! Какое туподушие! Какая страшная, тупая, смешная потерянность! Особенно у тех, кто режут себе вены. Эти какие-то…извращенцы. Я их не люблю. Ладно бы застрелиться или горло себе перерезать… А то вены. И смотреть, как будто из них душа вытекает… Вот такие непременно не в ладах с собой. Хотя, с другой стороны, красиво… Согласись. В глазах… всё красно. И вошедшие от ужаса даже хотят себе перерезать то же самое. Они уже ненавидят несчастного за то, что он умер. Они бы ему голову отрубили, если бы он ожил. Да… А… Есть ещё художники. Пишут любовные письма, чуть ли не в стихах признания, откровения, раскаяния, хотя раскаяния к чёрту!.. Ещё и плачут на письма. Делают из серьёзной вещи трагедию! Смешные мертвецы! Они думают, что поклоняются только трупам. Ха, как бы не так! Им мечтается, что к их могилам будут стекаться все люди, как в Мекку… или к могиле неизвестного солдата. Но лично мне… Мне вот сейчас кажется, что для меня самое то – подняться на крышу и спрыгнуть. Это как-то чище. Но тут есть одна кочечка. Это падение с крыши… Ведь это, как будто и духовное падение, понимаешь? Вот именно таким способом себя можно наказать… Хотя себя наказывать – самое малодушное из малодуший, самое скверное. А сели ты упадёшь на другого, кто будет в этот момент идти по улице? Он же тоже может умереть. Можно ли упасть и при этом не быть причиной чужой беды и разрушения? Меня очень волнует этот вопрос. А ещё… Не догадываешься об одной эстетской штуке? Перед падением с крыши весь мир, как на ладони. Ты высоко-высоко! Вот, гляди, глядите, я стучусь в гости к смерти, а сам так высоко и так мне хорошо, просторно, легко. Вид красивый опять же! Вот таким лётчикам можно половину грехов простить! Пусть они и дохнут, но дохнут, как… падшие демоны.
– Грех так говорить.
– А делать не грех, да?
– Грех так говорить.
– До чего же ты иногда бываешь скучным… и тоскливым. Ну признайся… Не в этом ли исход? Не в этом ли сакральность, законченная форма исхода?
– В чём? В чём?
– А вот теперь смотри. А вот теперь я тебя добью…
Андрей ходил из угла в угол, скрестив на груди руки. Дмитрий подвинулся к краю кровати, и Яськов резво чуть приблизился к нему и невольно наклонил голову. Дмитрий смотрел на него снизу вверх, но это был какой-то символизм противоположности, какой-то антисимволизм: по комнате бродила чувство, что Андрей глядел снизу вверх на гостя.
– Повеситься, чтобы не мучиться,– хрипло почти прошептал Клинкин.
– Ну это уже старое. Это давно прошло… Как ты… Не мог же ты ради этого сюда прийти! Ради этих слов! Я не верю. Это всё прошло уже.
– Нет, не ради этих слов. Как ты трепещешь у меня! Ты ведь… не узнал.
– Чего не узнал?
– Ладно, не так. Продолжаешь мучиться, ты ведь не узнал… И ты теперь мучаешься не из-за матери, не за неё, не из-за её гибели, не из-за своих страданий, не из-за всех страданий… У тебя теперь новое страдание, новая игрушка. Ты ведь не узнал и не знаешь. Ведь так?
– Я… Что не узнал?
– Так, так, так, так! Ура! Какой вопрос! Есть ли жизнь после смерти? Вот вопрос!. Вот оно твоё новое страдание! Твоё окончательное страдание! Бессмертная мука, ха-ха! Азартный ты человек! Как же тебе интересно! Вот до чего дорос… Ты стал играть! Ты стал ставить на жизнь, потом ты стал ставить на смерть. Красное и чёрное. Вот только как бы зеро не выпало! Ха-ха! Представляешь картину! На какое чувство упадёт шарик?
– Он, вообще, не может упасть. Здесь уже не до шариков.
– Всё это ерунда! Тебе просто-напросто интересно. Вот, что не ерунда!
– Вспомни, что это когда-то было ерундой.
– Красное и чёрное…– Дмитрий сжал кулак и поднёс его к своему лицо, словно грозя самому себе.– Ведь это красное и чёрное. Всё смешалось. А как страшно! До того, что кажется, уснёшь и во сне не выдержишь, и умрёшь от этого страха. Сердце не выдержит… как будто за этим сердцем тень какая-то… как будто за сердцем стоит кто-то и грозит ножом… как будто сердце уже знает, как это больно, когда он воткнётся.. этот нож больно втыкается… наверное… а сердце как будто наверняка знает это. И боится. И жалуется. На жизнь оно жалуется самой жизни. А где-то смерть караулит и… бах-бах! Как косой… своей. Так боишься косы этой, что уж поскорее бы… Лишь бы не боятся её!.. Лишь бы оставить смерть позади, а там будь, что будет. Убить, чтобы не бояться… Чтобы позабыть про верёвку с мылом. Чтобы забыть про косу… Чтобы не бояться смерти, пойдёшь на всё… даже на смерть.
– Ты меня пугаешь. В смысле, я не за тебя боюсь, а ты меня запугиваешь, чтобы я из-под одеялки голову не смел высунуть.
– Да ты и так дрожишь весь… нравственно. Холодно на тебя смотреть. Значит, жить хочешь. Значит жизнь любишь, цепляешься за неё. А, скажи, мне мой любезный напарник, что сильнее: желание жизни или страх смерти? Я тебя нарочно спрашиваю. Ты же только сейчас ответа не знаешь. Знаю, знаю… меня это чувство доводит до сумасшествия. Оно меня делает почти беспомощным, потому что я начинаю мыслить трагически. Тут уже не одеялка, понимаешь меня? Тут страх настолько сильный, что и одеялки не боишься, а сбрасыавешь её… на пол. Как же мне быть, если желание жизни возникло после страха смерти! Вот она загадка! Вот где заноза-то сидит!.. Вот где всё гноится и набухает!
– А окончательно набухнет, то и завоняет? Как на помойке.
– Дальше, ещё, дальше, ещё, дальше, ещё, дальше, ещё, дальше… И хочешь убежать от всего этого, и в то же время не хочется быть, как все эти…
– Так не терпится наложить на себя руки, что готов других убить… И этих тоже, но не говоришь им, чтобы не ущемить их… И правда в этом нежелании, а не в желании убить.
– Да, да, эти. Спотыкаешься о них, как о бревно.
– А обойти зазорно.
– Дальше, дальше, дальше, дальше, дальше.
Теперь уже Андрей сидел на кровати, а Клинкин кружил по комнате, и грыз ногти. Яськов со страхом в душе и с покорным любопытством во взгляде смотрел на метавшегося Дмитрия.
– Ага, стесняется, побаивается, ага… Ты думаешь, что я тебя раскусил? Я себя раскусил,– промямлил Клинкин.
– Быстро…
– Быстро? По-твоему это быстро?.. Сколько ночей я думал, додумывался, догадывался, но никак не мог понять до конца, чего же мне от себя нужно! Я читал по ночам Библию… Евангелие… И что я нашёл там? Всего лишь… минутное успокоение. Что-то жужжало в моей душе, пищало, щекотало, скрежетало, как будто, какое-то противное… насекомое, что ли, ха-ха. туда залетело. Ты думаешь, это из-за той пощечины. Нет. Хотя о ней потом, потому что сейчас… она не стоит того, чтобы говорить о ней сейчас. Теперь о той книжечке… Значит, бьёт она по сердцу, если я всё читал и читал её по ночам. Но насекомое жужжало и жалило. Может быть, от этого моя душа выросла, что её жалило это насекомое?.. И я понял. Помнишь, как он орал? Ты видел его в своём воображении. «Горе вам!»– Дмитрий приблизился к Андрею и прокричал хищным голосом.– «Горе вам!» При чём тут бедные эти книжники и фарисеи? Как он их обманул! Это можно было бы простить, тому, кто не говорил про соринку в глазу и пощёчину. Но он не имел после свих слов право орать на всю ивановскую. Какого дьявола ты там разорался! Ты дал людям надежду и тут же сам её угробил! Ты помнишь… Помнишь, как он стоял и кричал, краснея и махая руками: «Горе вам, книжники и фарисеи!» Не их ли в первую очередь надо было жалеть и спасать? Он стоял и орал… слюной брызгался, трясся, как ненормальный алкоголик… А про то, что придут лжепророки? Он чувствовал, что он провалился, что где-то дал маху. Он кое-кого предчувствовал, он предсказал кое-кого, быть может, даже возлюбил его… и всё равно, лжепророки… Ох, это фарисейское самолюбие и тщеславие! Он сам – фарисей!
Андрей уже давно сидел, раскачиваясь и затыкая уши руками, но Клинкин говорил так громко, что Яськов всё слышал. Утренняя тишина склонила над ними голову и тоже слушала.
– Всё… хватит, довольно, прошу тебя, этого не надо…– глядя в пол, сказал Андрей.
– Нет… Я дождался своего времени. Теперь слушай меня. Воображай его у себя в комнате. Но только не долго. Он недостоин тут долго находиться. Да ещё и в моём присутствии. Лжепророки, лжепророки…
– Он, может, и не о таких говорил…
– О таких, о таких… Сам прекрасно знаешь. Только пытаешься обмануть себя. А теперь смотри…
– Что?– Андрей дрожал; его взгляд никак не хотел останавливаться на Дмитрия и блуждал по комнате, словно в поисках какого-то спасительного предмета.
– Я тебе сейчас… история проверну, переверну… Как хочешь так и называй. Мне всё равно,– Клинкин стал говорить насмешливым полушёпотом, как будто в комнате находился посторонний, который мог услышать то, что ему слышать было необязательно.– И будущее станет прошлым, возможно. Ведь он был великий обманщик. Он и сам себя обманывал. Если и был когда-нибудь в истории… Антихрист, то это был сам Иисус. Вот бы он слышал меня сейчас!
– Тут особый грех у тебя. Такое чувство, что его вообще нет.
– Вот! Вот! А я про что!
– Здесь слишком мало художественности. Я бы по-другому говорил.
– А ты и мыслил бы по-другому.
– Нет, не совсем,– Андрей перестал дрожать, но в голосе появился странный, слегка восторженный оттенок напряжённости.– Тут, вероятно, вообще думать не нужно головой. Тут надо душой думать. Да ещё и чтобы это было каким-нибудь высоким удовольствием… нирваной.
– Скажи, Андрей, ты бы мог предать человека?
– Конечно, мог бы.
– То есть, ты чувствуешь, как минимум, маленький груз порока над собой?
– Есть такое. Толькоо он мне не по силам. Мне бы твой большой груз.
– Я очень долго не знал, как испытать чувство настоящей вины. И тут пришло в голову, что предательство… Ах, клянусь, я и сейчас не уверен… Но как предать? Убить? И не способ ли это прийти к самому себе? Возродить, воскресить себя… Как можно растормошить себя, если чувствуешь, что ничего не может помочь… Вот тут-то силу в руки и вперёд… Можно ли оживить свою душу, убив чужую? Вот что меня мучило и вдохновляло… Вот к чему я стремиться начал.
– Нет, у меня другое…
– Ну это понятное дело. Ясно, что я от тебя солидарности не жду.
– Если кровь в душе быстро не смыть, она запечётся. И тогда ещё трудней будет от неё избавиться. Она засохнет под рассудком, как под солнцем, как от времени. Ты избавился? И быстро?
– От чего?
– Не от чего. Слушай-ка, ты всегда боялся? Тебе всегда было страшно, видя что-то тёмное вокруг себя? Ты, конечно, догадывался, что способен на величайшее злодейство, но как ты был уверен в том, что можно его и не избежать?!
– Мне кажется, что мне с самого рождения говорили о гадостях всяких… о том, что мне гнить под забором… Ну и как мне было жить? Я с этим не мог жить и я не жил. Я жил, конечно, но я жил трупом. От живого человека не воняет злом. А от меня-то как разит!
– Не наговоривай!
– Да при чём тут… это!– вскрикнул Дмитрий и с досадой махнул рукой на Андрея. Тот выглядел всё более уставшим.
– Нет, ни при чём! Шучу! Ни при чём! Я о другом говорить хотел… Это у каждого. Повсюду тени и всегда. Везде эта тёмная дрянь.
– Мне всё время чудится, что она смотрит… на меня сзади.
– Конечно! Да! Я так и знал!.. Сзади. Обязательно сзади!.. Только там и больше нигде и это здорово.
– Что здорово?
– Она сзади! Если тень сзади, то путь ведёт к солнцу.
– А если она спереди?– дерзко усмехнулся Дмитрий.
– Ну что за вопрос!– словно боясь его обидеть, точно так же усмехнулся и Яськов.
– Я не буду причинять людям боль. Хватит с нас!
– И правильно, и правильно. Молодец!
– Пусть уж лучше… другие бьют.
– А я бил по-другому… Точнее, грех у меня был как-то другой. Я мечтал. Я до слёз мечтал! Я с ума сходил и мечтал о том, чтобы меня били, чтобы я щёки подставлял. Веришь или нет? Это было оттого, что мне уж очень хотелось показать, какой я большой, великодушный. Ах, как бы меня целовали!.. Не могу! Рвота нестерпимая… Как меня не вырвало тогда от этих нежностей, сам сейчас понять не могу… Потому я понять не могу, что не вырвало. Детство какое-то!
– Да уж! Пощёчины эти, ласки. Без рук, как без души. Ни ударить, ни приласкать. Пустота одна. Хоть губы есть, чтобы целовать…
Тут Дмитрий сделал ту паузу, которая в роковых разговорах является и увертюрой, и предупреждением, и инструментом интриги, и ударом в душу. Он поднял почерневшие от ненависти глаза и добавил:
– Особенно страшилищ каких-нибудь.
– Особенно красивых… страшилищ?
– Как ты догадался, товарищ?.. Какая умничка!
– Алина не настолько страшилище, чтобы быть привлекательной… для меня в этом смысле. Я тебя разочарую… Я её люблю. Но быть с ней не собираюсь.
– Не художник ты… Нет ничего красивей, чем полюбить и, главное, упасть к падшему ангелу. Алина-ангел. Даже слова похожи. А она – ангел. Это совершенно точно. Окровавленный и кровоточащий. И обмыть её невозможно. И ты отказываешься от такого счастья! Зря. Я бы на твоём месте тоже отказался.
– Есть ещё причины, по которым я не могу быть с ней рядом… Алина – очень мечтательная, лирическая, так сказать. Она думала много, мучилась, саму тебя терзала, сочинила себе идеал, целовала его, нарочно не торопилась и ждала. Чересчур долго ждала. Идеал, идеал! Понимаешь? Догадываешься? И нашла, конечно же. Она любит не меня, а свой выдуманный идеал. А мне теперь что остаётся? Тоже, либо, помечтать? Я не с ней, но я её люблю. Разве это не больше, чем если бы я был с ней?
– Это по-свински.
– Не правда.
– К тому же с ней быть непросто. Она – тяжёлый человек… Есть люди, которым плохо, когда другим хорошо; даже если им хорошо, и в это же время и другим хорошо, им всё равно становится плохо только лишь из-за того, что другим хорошо… Как всё противно!



