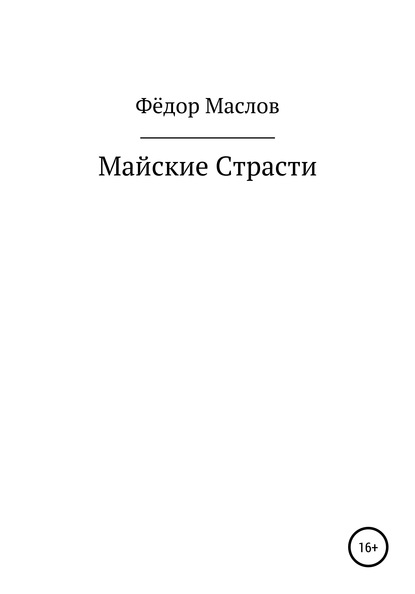 Полная версия
Полная версияМайские страсти
– Как хоть можно быть такой предсказуемой!– Оксана, вставая с кровати, цокнула языком, подошла к стеклянному столику у окна, налила в стакан немного воды и нарочно медленно выпила. Она поправила воротник халата, вновь оголивший её матово-загорелую грудь, и с сахарной улыбкой повернулась к Алине.
Та по-театральному и чуть нахально облизнула загоревшиеся алым презрением губки и сымитировал плевок в её сторону.
– Ром, я только что отказалась от свадьбы… Можешь завтра никуда не намыливаться… Хотя можешь где-нибудь ещё покружиться…– сказала Алина.
Искупников кинулся к сестре:
– Ты что… сдурела совсем? Как это?
– Вот дела! Интересно девки пляшут!– рассмеялась Оксана.
– Как это случилось?
– Никак… Я тебе всё сказала… Больше не хочу об этом…
Злость на сестру усиливалась с каждым мигом возраставшей уверенности в том, что она не шутила. Состояние Романа было до боли комическое. Он сильно сердился на Алину и примерно так же сильно не желал уничтожить обстановку, которая так неожиданно нарисовалась. Финт был в том, что Роман чувствовал, как и ему, и Оксане было весьма неприятно поведение Алины, но он, в отличии от жены, отчасти хотел подобной смены вида напряжения.
– А зачем мне замуж?– Алина спрашивала то ли себя, то ли родственников, то ли никого.– Чтобы изменять?
Алина поджала губы, так чтобы Роману и Оксане показалась, будто она улыбалась, и пожала плечиками. Ей казалось, что возникала интрига. Алина вдруг закивала головой, словно соглашаясь с какими-то внутренними убеждениями.
– Вот сейчас начнётся,– тихо сказала Оксана.
Алина, точно пробудилась:
– Начнётся то, что и не заканчивалось. А что? Почему нет? Действительно! Зачем мне выходить замуж? У меня много примеров. И плохих, и хороших. Но плохие лучше. Лучше даже, чем незамужество. А то, брат… А вдруг ты узнаешь, что твоя жена тебе изменяет? Вот потеха-то будет!
– Замолчи,– Оксана приблизилась к Алине.
– Вот потеха ещё одна будет, когда ты узнаешь, что она тебе не изменяет. Ты же, думаю, с ума сойдёшь.
– Замолчи.
– Давайте присядем…– Искупников начал было садится на кровать, но вдруг ударил себя по лбу и вновь пошёл к середине комнаты.
– Что ты её слушаешь! Она специально тебя кружит, чтобы ты совеем заблудился,– прокричала его жена.
– Ага,– кивнула ей Алина,– конечно. Кого хоть ты слушаешь! Меня! Я ещё и кружу… Да она нарочно… за тебя вышла, чтобы быть ближе к твоему другу!
– Дура… Стерва… А, может, ты мне завидуешь? Сама-то не выскочила…Ха-ха!
– Да,– горько улыбнулась Алина.– В гадючестве ты со мной почти сравнялась…
– Хотя… не расстраивайся! У тебя ведь много кандидатов. Так много, что ты даже не огорчишься, если тебя любимый проигнорирует… Для того их и держишь…Шучу.
Алина серьёзно слушала Оксана, потому что та неожиданно широко и оголтело улыбалась.
– Нет, ты не шутишь,– шепнула Искупникова.– Но… у тебя много выдумки, а я знаю настоящую историю. Ты с выдумками не шутить, а я не шучу с правдой. Я слышала, что у одного ребёнка… ребёнка соседей… там у родителей… была какая-то болячка. Он постоянно плакал громко, головка, видимо, болела. А потом у него опухоль нашли… Там, кстати, когда я поднималась, опять плакал сильно кто-то… в детской…
Оксана оттолкнула Алину, которая от этого чуть не упала, и выбежала из комнаты.
Брат и сестра несколько раз переглянулись, не желая ничего ни говорить, ни намекать взорами.
Роман опять был охвачен тяжелейшими мыслями о страхе, и только теперь он начал прозрачно понимать, отчего так суетилось его сердце. Искупников боялся, что он поймёт все оттенки характера жены. Какой-то едва различимый факт давил на его сознание и соблазнял скрываться от желания действительности. У самоубийц, которые боятся своими руками себе доставить боль перед смертью, иногда наступает затмение одиночества греха, и они подстрекают и оскорбляют других, чтобы те разозлились и нанесли им роковой удар. Так же и Роман, будто крутил головой по сторонам, ища кого-то, и вдруг с облегчением ощутил, что удар был нанесён, душа взлетела на небо, райские кущи открылись перед глазами его.
– В следующий раз получишь у меня!– с этими словами вернулась Оксана.
– Успокоила?– разрумянившись от блаженства, спросил Роман.
– Да… А ты, ненормальная, врача себе ищи.
– Это ты ищи… себе психоаналитика.
Алина смачно плевалась словами в Оксану.
– Ну-ка обе успокоились!
– А ты не лезь ко мне,– Алина била брата по рукам, хотя они и не тянулись к ней, и не хватали её, и (вот русские разбойники!) до полусмерти боялись рук Искупниковой.
Роман быстро отошёл от неё. Он опять начинал злиться. На этот раз на себя и на жену. В вихре эмоций, как у его сестры в этом же состоянии звучало в душе что-то чересчур магдалинское, так и у него в сердце звенели какие-то очень стенькаразинские напевы. В такую минуту он мог убить или себя, или кого-нибудь другого.
Роман сжал кулаки и старался отвлечься от греховных мыслей. Он начал думать о жене, но и тут была неотвратимая казнь. Искупников закрыл глаза, и в воображении упал на колени перед обликом Оксаны.. Он как-то ощущал себя вне закона и, желая поцеловать её руку, не мог этого сделать, вторично нарушив что-то сакральное и нерушимое. Она, как будто чего-то стыдясь, склонила набок голову, как монашка, и Роман чувствовал избыточную вину за этот её стыд. Он, словно винил себя в том, что Оксана оказалась или стала грешницей.
Искупников тяжело вздохнул, как обычно вздыхает на похоронах, и открыл глаза. Непросто было на него смотреть Алине и Оксане.
– Алина… Можно тебя попросить. Иди к себе,– сказал Роман, глядя на жену.
– Почему? Объяснишь?
– Иди… я сказал.
– Ах так… Хорошо… Я уйду… Но только после того, как скажу тебе, какой ты придурок… конченый… если она тебе так изменяет!
Роман начал топтаться на месте, чрезвычайно растерялся, но было видно, что не из-за слов сестры, а из-за чего-то другого, имевшего на них воздействие.
Он вздрогнул от неожиданности, когда между ним и Алиной очутилась Оксана и, почему-то чуть присев, принялась тонко-надрывно кричать, глядя ему в глаза:
– Ну, скажи мне, кто ты после этого! Как тебя называть!.. Ну! Говори же! Да как ты меня любишь такую! Как ты хоть живёшь с этим!
Искупников уже не слышал её последних слов. Он подошёл вплотную к сестре:
– Это правда?..
– Правда, правда, правда…– как-то вызывающе прокричала Алина и высунула язык.
Вдруг она от ужаса открыла рот и подалась назад. Сумерки замогильного страха отразились на её лице. Брат поднял руку и уже готовился со всей силы ударить сестру, но Алина успела выбежать из комнаты и только слышала, как Роман кричал ей вслед:
– Я тебя убью такую паршивку. Запомни мои слова!.. Ты… ты…. Ты посмела такое выдать! Ты предала её, тварь!..
Оксана в сентиментальной задумчивости с красными от слёз глазами чесала затылок.
– А с тобой я потом поговорю.– Роман угрожающе ткнул пальцем ей в душу и спустился на первый этаж
С полминуты постояв у входной двери, он вышел на простор ночи, и ночь до утра не отпускала его из своих объятий. Что Искупников там делал, знает только он сам.
Медленно подходя к своей спальне, Алина слышала, что сказал жене брат. Ей стало ещё сквернее. Она в потёмках, боясь оступиться и почти не отрывая ног от пола, шла к своей комнате. Искупникова нащупала ручку двери. Она стыдливо вошла в спальню. Алина с боязнью пробиралась сквозь паутину темноты. Было как-то гнусно включать свет.
Едва дойдя до кровати, она рухнула на неё и стала искать всегда лежавшего возле её подушки маленького плюшевого мишку. Найдя игрушку, с какой-то переспевшей злостью любви обняла её.
Главной дикостью характера Алины было добровольно-мазохистское отшельничество её души. Искупникова и тяготилась собой, и в тоже время не хотела себя менять. И в окружении знакомых, и сидя взаперти в своей комнате, она поочерёдно страдала как от одиночества, так и от жажды одиночества. Мысли об этом постоянно стучались в её сердце, но оно их не принимало, насмешливо игнорировало и даже иногда прогоняло.
Теперь она одновременно терзалась от двух своих «главных пороков». Неожиданно для неё, это вызвало всплеск эгоизма. Алине никогда не было себя так жалко, как в ту минуту.
Она довольно громко заплакала и, ещё сильней придав к пылающей груди плюшевого мишку, заговорила голосом обиженного подростка:
– Андрей, Андрюшечка, миленький! Ну где ты? Где ты? Как же ты мне нужен! Где ты?..
Она приподнялась и стала целовать игрушку.
– Где ты? Ну прости меня, дуру! Прости же, наконец! Ну что ж ты молчишь всё время!.. Хоть бы ударил! Милый мой, как же я хочу к тебе!..
Образ брата, крики Оксаны и подобострастное терпение Яськова тяжелейшим грузом одинокой безысходности опустились на её сердце, и оно рыдало всё сильнее с каждым мгновением, пока не проснулось утро.
Вторая Часть
Глава 1.
Страх
Простившись с Яськовым, Дмитрий на полчаса зашёл к своему товарищу, который жил по соседству и у которого проходила «ещё более шумная вечеринка, чем у пастыря Искупниковой, как сказал Клинкин».
Сам Дмитрий Клинкин покинул «новое собрание» в состоянии поразительной бредовости. Он дворами побрёл домой быстрым шагом, но вдруг понял, что шатался совсем неприлично и смешно. Дмитрий в испуге дважды посмотрел по сторонам и укоротил шаг. В голове шумело, в душе -тоже.
Луна была чересчур назойлива и с издёвкой пробиралась в сердце, терзая его каким-то ночным, кошмарным таинством. Звёзды улыбками чёрного неба бесили и устрашали.
Клинкин попытался убежать от пейзажа лунной природы. Он что-то шептал самому себе, но в то же время и не прислушивался к своим рассуждениям, не признавая их, но, однако, будто презирая ту дурманную муть, которая вновь на него опустилась.
Когтистые руки воспоминаний вдруг сзади схватили его за плечи, а затем начали царапать ему глаза. Дмитрий покачал головой, тихонько вскрикнул, провёл ладонью по лицу и насилу раскрыл глаза, опять озираясь вокруг. Ветер истины завывал, и Клинкин чувствовал, как он начинал лишаться слуха. Дмитрий вскрикнул нарочно и не услышал своего крика. В ушах звенело, шептало, гремело, угрожало. Дмитрий обхватил голову руками и, спотыкаясь, пошёл вперед.
Шершавые языки лизали ему шею, и он угадывал, что вот-вот его укусят. Дмитрий бежал, глядел по сторонам и, никого не видя, чувствовал, как весь мир, тысячелетия человеческого разума, поседевшие от времени глаза добра и зла ещё пристальней стали смотреть на него и не сметь прятать пророческие взгляды. Как старая дверь в старом призрачном замке, что-то скрипело вокруг.
– Ау,– крикнул Дмитрий.
Он оглянулся и трусцой побежал к светофору. Машин не было. Клинкин перешёл дорогу и вышел на прямую длинную улицу, в конце которой находился дом, где он жил.
Пробежав пару метров, он прохрипел:
– Кто?
Дмитрий, не останавливаясь, обернулся. На стекле воздуха рисовались красные узоры, и он понял, что ему начинало казаться неисправимая чёткость линий и задумки того, кто это делал.
– Мы…
Клинкин закрыл уши, но вновь услышал это слово. Теперь он бежал, что было сил. Весна ледяной струей просачивалась в горевшую грудь.
– Тут…
Дмитрий вскрикнул так, что в ушах зашумело ещё властнее.
– Надо… убить…
Если бы Клинкин обернулся теперь то, ему казалось, рука страха мгновенно его задушило бы прежде, чем он успел бы разглядеть лицо такого страха.
– Надо…– шептало сзади.
Дмитрий понёсся ещё быстрее, и чем быстрее он бежал, тем громче слышался голос.
– Себя же, себя же…
Он добежал до двери подъезда, вытащил из кармана ключи, но они выпали из дрожавших рук.
Клинкин стонал и задыхался. Он подобрал с земли ключи, но никак не мог разглядеть кодовый замок.
Дмитрий наугад тыкал нужным ключом.
– Себя же…
Клинкин зажмурил глаза, продолжая умолять замок, чтобы он открылся.
Дверь отворилась. Через полминуты Дмитрий был у себя в квартире. Он жил один, но было как-то полегче находиться дома, чем на улице. Он, не раздеваясь, вбежал в спальню, и упал на кровать, с головой накрывшись одеялом.
Волнение отпустило, и он рухнул в забвение.
Бывает такая лихорадка души (самая сильная и зловещая), когда она попеременно то усиливает свою власть, то ослабевает. Человек падает в сон, поочерёдно то веря, то не веря в то, что он спит. Временами появляется сознание того, что это – явь. Это сознание подстёгивает мыслить здраво и нещадно Тогда человек ведёт себя так, как он вёл бы себя наяву. А временами кажется, что это сновидение, и тогда он может выкинуть такое, что, бодрствуя, никогда бы не выкинул, считая это позёрством, школьничеством, хулиганством.
Изменение сознания происходят на протяжении всего периода забвения.
Теперь о Клинкине.
Его случай был подпорчен оттенком особого эгоизма или, лучше сказать, особой, бредовой самоуверенности. С самого начала своей лихорадки Дмитрий имел твёрдое убеждение в том, что это всего лишь самый обыкновенный сон. Ему иногда даже думалось, что это убеждение являлось доказательством отсутствия сна или неполноценности оного. Могло ли быть такое убеждение обоснованным и абсолютно верным, есть возможность увидеть далее.
Дмитрий стоял посреди ванной комнаты и смотрел в зеркало. Лицо его выглядело чересчур бледным, под глазами чернели круги бессонницы. Из его спальни доносился робкий шорох, как будто сам себя боявшийся или, быть может, желавший затаиться.
Клинкин брезгливо выдохнул, пошёл к чуть приотворённой двери спальни, пытаясь прислушаться к странным звукам.
Войдя в спальню, он сел на стул, стоявший справа от двери, достал из кармана сигарету, спички и закурил.
Лампа был потушена, но комнату освящал яркий, синевато-металлический свет луны так, что Клинкин мог разглядеть, как неподалёку от него находились два человека.
Слева кто-то откинулся на спинку кресла, а справа в углу некто в рваном свитере и рваных штанах лежал на полу и ворочался, что-то вертел в руках; от него и исходил шорох.
Луна поднималась всё выше, становилось светлее. Она, словно любопытствуя, заглядывала в комнату, и её взор ненароком освещал спальню Клинкина.
Лежавший в углу пыхтел, ворочаясь, пока не принял удобное положение. Его руки тряслись, видимо, от слабости. Он чиркнул спичкой и поднёс её к маленькой столовой ложечке. Огонь снизу лобызал металл, человек явно получал удовольствие, глядя на своё творение.
– Наркоман я, наркоман… Чего уставился?– прохрипел он.
Вокруг него собралась тьма, как будто боявшаяся огонька спички и не подступавшая к наркоману. Дмитрий разглядел, что лицо и свитер этого человека были до безобразия пыльными. Улыбка на лице наркомана разгоралась с каждым мгновением. В углу было тоже пыльно.
Огонёк погас. Наркоман поднял с пола шприц, наполнил его жидкостью из ложечки и запустил зелье в вену.
– Разве тебе это незнакомо?:– спросил он, укладывая на пол голову и сладострастно вдыхая загустевший от напряжения воздух.
– Что именно?– Дмитрий уже почти до конца выкурил сигарету.
– Кайф… Кому, как не тебе, про кайф говорить. Особенно со мной. Иголочка, ложечка, огонёчек, кайф. Это наркомания или воровство? Ха-ха… И то, и другое. Наркоман становится вором. Как это… кайфово воровать чужие чувства, пускать по своей душе, как героин по вене. А потом ломка. И если не своруешь, то, милый мой человек, умрёшь, сдохнешь под забором. Ты когда-0нибудь видел, как умирают от любви, или от страсти? Когда их становится уж очень много… То обязательно умрёшь… Ох, вредно для организма, когда много героина… А сердце-то не выдерживает… героина любви… Оно умирает и тогда, когда её нет, когда она была только что, но ушла… И если по-быстрому не найдёшь, у кого можно украсть чувство, кем бы можно было питаться, то… Тут и опасность своеобразная. Наркоманская.
– Ни разу не кололся.
– Правда?– наркоман размашисто расхохотался и долго не мог остановиться. – Я… я знаю. Но и ты ведь знаешь, что такое… кайф.
– Я тебя не понимаю,– Клинкин равнодушно закурил вторую сигарету и с наслаждением затянулся.
– Ты меня только в одном не понимаешь… Ну да Бог с ним с этим… одним,– наркоман подкатил глаза, нагоняя на себя удовольствие.
– Слушай, ты меня заинтересовал,– Дмитрий чему-то томно улыбнулся.
– Ещё бы. Ведь мне до тебя далеко. Ложечки с иголочками не дошли до тебя… А ты дошёл до края… Ты классно кайфуешь… потому что ты видишь впереди смерть. Как это щекотливо… В том смысле, что щекочет эмоциями. Получаешь наслаждение, стоя у пропасти… Ловить его всеми руками души… Это круто. Это единственное удовольствие. Только так можно видеть жизнь. А когда и это не бодрит, то одно спасение – грязь. И вот она может подтолкнуть к пропасти и хоть на время спасти жизнь. Жизнь такую можно видеть, только видя смерть. Получить удовольствие можно только у пропасти, на самом краю. Поэтому нарочно там и находиться хочется.
– Пошляк…
– Ха-Ха. Ты же знаешь, что я не про себя говорил. Я твою историю тебе же самому рассказал.
– Молодец,– Клинкин безразлично, надменно бросил окурок на пол и потушил его ногой. Он начал третью сигарету.
– Не можешь остановиться,– протянул наркоман.
Дмитрий молчал, выдыхая из груди дым, как будто яд сердца.
– Можешь отойти назад, но нельзя при этом не отвернуться… от того, что впереди,– исхудавшее лицо наркомана очень чётко изображало его исхудавшую душу. Клинкин это понял. Его собеседник заулыбался.
Дмитрий продолжал курить.
– Не останавливайся, не останавливайся… А тогда-то ты остановился.
– Когда?
– Как «когда»?
– Говори!– Клинкин закричал.
– На мосту, на мосту.
– То есть?
– А вот смотри. А если бы ты тогда с этой девчонкой улыбался, как я сейчас с тобой?.. Если бы ты ей в лицо мило улыбался, а за спиной её друзьям говорил то, что ей сказал. А? Каково? Каково я придумал?
– Неплохо придумано.
– Потому ты этого и не сделал, что это был бы последний шаг. Ты бы в этот же вечер с этого же моста в воду бы кинулся…
– Остроумно… Дальше.
– Дальше самое интересное… Вот именно стоя перед ней и смеясь ей в лицо ты был на самом краю, но так и не сделал этот шаг… который и не мог сделать… который вообще был нереален!
– Как наш с тобой разговор?
– Остроумно.
– Он ведь нереален?
– Ну это мне виднее, чем тебе…– наркоман растягивал слова, явно получая от происходящего удовольствие.
Дмитрий повернулся к двери. В комнату тихо вошёл юноша. Он казался растерянным, не знал, куда присесть и к кому обратится. Юноша что-то пробормотал и быстро, словно старясь, чтобы его не заметили, сел на стул у окна.
Человек в кресле, одетый в чёрный классический костюм, в белую рубашку с белым галстуком, до этого ни разу не шелохнувшийся, чуть приподнялся, и Дмитрий упал на колени перед догадкой страха, его терзавшим и раздражавшим: Клинкин смог, наконец, разглядеть его лицо. Это было его лицо, то самое лицо, которое он видел в зеркале.
Юноша, казалось, сначала испугался этого лица, потом Дмитрия, потом наркомана, а потом всех их вместе, как будто они одновременно к нему приближались.
Человек в кресле усмехнулся и вновь откинулся на спинку.
Юноша с застенчивой медлительностью осмотрел себя и поудобней уселся на стуле. Рваные джинсы, новые белые кроссовки, футболка в обтяжку выдавали его страстное влечение к моде. Самому ему можно было дать не более семнадцати лет. Лицо, словно фарфоровое, светилось молодостью и красотой.
– Чего нарядился-то?– спросил его Дмитрий, как давнего знакомого.
– А тебе, что, не нравится? Я, кстати, твоего мнения не спрашивал…
– А я тебе отвечу, что нет.
– Это почему же?– юноша презрительно посмотрел на Дмитрия, изучая его одежду.
– Я смеюсь над тобой… Я моднее тебя.
– Да что ты? Потому что ты…
– Потому что я – подлец. Не расстраивайся. Всё равно меня никто не переплюнет
– Я модней одет. Значит, я моднее.
– Ах, друг мой… Я тоже так думал… Сейчас я тебя моднее.
– Только лишь от того, что подлец?
– Именно…
– А разврат это тоже мода?
– Своего рода…
– И ты, конечно, знаешь, что это…
– Извини, что перебью, но это самая-самая мода… Но только меня она лишь по головке погладила.– Дмитрий чувствовал, как кровь горячела в жилах, ему становилось жарко; он возбуждался до самого низкого презрения к себе,– презрения от собственного неравнодушия.– Как я от неё шарахался! Как я уходил от этого разврата!.. Я всё сильней, всё сильней в него уходил, чтобы уйти от него навсегда. Я всё делал, чтобы он мне надоел так, чтобы меня затошнило и мне бы захотелось уйти… Но он не надоедал, а меня не тошнило…
– В этом величайшая идея донжуанства.
– Самая великая идея не в этом. Самая великая идея в том, чтобы не думать,– Дмитрий в изнемождении опустил голову. Он чувствовал, как уставал отчаянно и беспомощно.
– Спать хочешь?– с улыбкой победителя спросил его юноша.
– Ага…– Клинкин ухмыльнулся, показывая, что не хотел никого ни в чём переубеждать.– Но не с вами. А с вами не захочется никогда. А есть, кстати, те, с кем этого хочется всегда.
– Да, да… Есть такие девушки…
– Помолчи! Ты слишком мало знаешь о девушках и о моих отношениях с ними, о моей клятве…– Клинкин на миг задумался.– Вот скажи мне! Ведь можно клясться в вечной любви, я согласен… Но как можно клясться, что будешь любить через минуту…
Дмитрий глухо засмеялся. Страшен был звук, выходивший из его сердца. Юноша подумал, что Клинкин мог умереть от этого смеха.
– Моя любовь,– опомнился Дмитрий,– это как на русских горках. Да, что-то вроде этого. И вот за это-то я начал себя ненавидеть. Так сильно ненавидеть себя, что перестал презирать других. Кто знает, может быть, в этом моё счастье! Моё метающееся счастье. А знаете ли, друзья, что быть счастливым опасно. И только сильный и сытый может повеситься счастливым. Наверное, поэтому те, кто этого не понимают, плачут и грустят. Если бы вы только знали, как мне стало смешно смотреть, когда они так искренне грустят… Но тут подоспевали мои девочки-ангелы-хранительницы. Кто-то очень бдительно стережёт меня и не позволяет подохнуть в одиночестве. Конечно, и притонец подмешался тут… Мой спаситель…
– Врёшь ты!– взвизгнул человек в кресле.
Никто не оглянулся на него.
– Но как-то быстро он всегда уходил,– мечтательно заметил Дмитрий.
– Так это неплохо,– боязливо сказал юноша.
Клинкин вновь закурил:
– За что хоть я такой урод!
– Ты счастлив… И урод?– юноша робко поглядывал на Дмитрия..
– Может быть, я и счастлив, но я боюсь этого… потому что чувствую, что недостоин. Я перестал по-настоящему ценить… любовь. Это невероятно, но, страдая от несчастной любви, я, наверное, застрелился бы от долгов,– Клинкин вдруг почувствовал запах пороха. Он в испуге огляделся по сторонам и увидел, что наркоман смотрел на него вампирским взглядом, махая рукой, как будто что-то стараясь развеять. Запах гари исчез. Наркоман засмеялся.
Человек в кресле погладил подбородок и щёлкнул пальцами.
– Слушайте сюда,– улыбнулся он.– Лукавите вы, особенно, ты, мой недоспелый друг. Ах, я веду сейчас себя, как один мой знакомый. Ну да Бог с ним! С неудельным! Хочется походить по комнате, но не буду!.. Так вот, ты, недоспелый, так сказать, говорил про моду, кто-то говорил про счастье и несчастье, но про счастливых пусть другие толкуют… да и про несчастны, видимо, тоже… А я про моду. Про модных девчонок с короткими юбками, с туфельками на полуметровых шпильках, накрашенными губками. Как они ищут кого-то! И тут появляется подлец. Он говорит матом и дружит с проститутками. Нам ли не знать, что на такого-то мерзавца, как на последнюю голливудскую моду, бросаются все длинноногие девицы! И как они хороши в этом броске! А всё это почему? А всё это потому, что идолу, хоть он и подлец, поклоняются все самые скучные неидолы.
– Уж не от его ли имени ты сейчас нам это говоришь?– раскачиваясь на стуле, как будто желая раскачать свою душу, спросил Клинкин.
– А не ты ли мне это говорил после Нового Года… Помнишь?.. Вижу… Помнишь, негодяй. Не хуже меня знаешь, что такое настоящая жизнь и сколько она стОит. Только слукавил ты, когда говорил про первый грех. Не первый он. Позёрство это было? Позёрство!.. Какие у тебя тогда всплески были!.. Когда рвёшься от лжи и ещё сильней врёшь, чтобы быть любимым; когда убегаешь от мерзости и ещё чаще предаёшь, чтобы бы тебе поклонялись; когда чувствуешь такую же подлость и прикидываешься хорошеньким, чтобы смеяться над другими и потом разом их всех разоблачить,– у Рокфеллера случился бы припадок от таких цен. И Боже, как ты себя ненавидишь, не чувствуя ненависти к другим! Какой душой тебя наделил Создатель! Она может плакать от презрения и при этом не страдать. Зато как она плачет, когда начинает любить! Ведь одной любви ей недостаточно. Ей нужно ещё и бесконечное множество её тонкостей.



