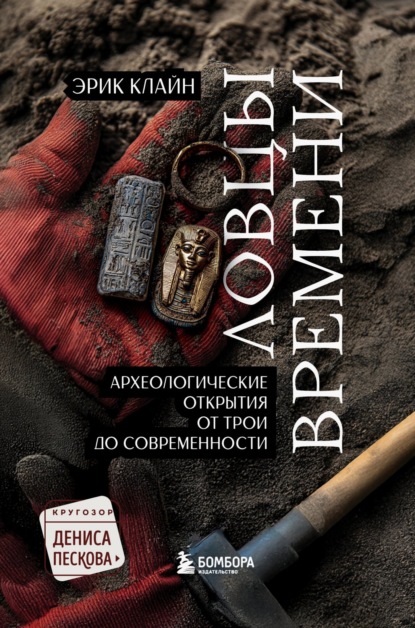
Полная версия:
Ловцы времени. Археологические открытия от Трои до современности
Тем временем в декабре 1842 года Поль-Эмиль Ботта начал первые в истории археологические раскопки на территории современного Ирака. Хотя он родился в Италии, он служил французским консулом в Мосуле. Эта должность давала ему достаточно свободы, чтобы по поручению парижского Лувра вести археологические раскопки. Именно так он и проводил большую часть времени – при активной поддержке своего начальства во Франции.
Сначала Ботта сосредоточил усилия на группе холмов, известных как Куюнджик, которые находятся прямо через реку от города Мосул. Там он мало что нашел и быстро сдался – как оказалось, преждевременно. От одного из своих рабочих он узнал, что в местности под названием Хорсабад, расположенной в двадцати с небольшим километрах к северу, нашли несколько скульптур, поэтому в марте 1843 года он перенес раскопки именно туда, и сразу добился результата. В течение первой же недели он начал раскапывать огромный ассирийский дворец. Сначала он думал, что нашел останки древней Ниневии, но теперь мы знаем, что Хорсабад – это древний город Дур-Шаррукин, столица Саргона II, ассирийского царя, правившего с 721 по 705 г. до н. э.
Что касается Остина Генри Лейарда, то он не собирался проводить раскопки в Месопотамии – по крайней мере, сначала. В 1839 году, когда ему было двадцать два, он по суше отправился с другом из Англии на Цейлон (ныне Шри-Ланка). Они проехали через Турцию, посетили Иерусалим, Петру, Алеппо и другие древние города, и в мае 1840 года достигли Мосула. Там Лейард увлекся археологией и заинтересовался раскопками древних холмов через реку от Мосула, но вернуться и начать раскопки смог только через пару лет.
В 1845 году Лейард начал раскапывать археологический памятник Нимруд, который он сначала считал древней Ниневией. Он находится в нескольких километрах вниз по течению от Мосула. Чтобы обмануть местного правителя, одноглазого и одноухого деспота Мухаммада-пашу, Лейард притворился, что отправляется на охоту, но тайно взял с собой инструмент для раскопок.
Прибыв на место, первую ночь он провел в хижине местного деревенского старосты – и видел сны о том, что может найти. Позже он описал это как «видения подземных дворцов, гигантских чудовищ, скульптур и бесконечных надписей». Это было скорее предзнаменование, чем сновидение – всё это и многое другое он действительно обнаружил в последующие годы.
На следующее утро он начал копать. Его отряд состоял из шести местных рабочих, которых он разделил на две группы. Они начали раскопки на двух разных участках, расположенных на холме далеко друг от друга. Первый день раскопок еще не закончился, а они уже обнаружили комнаты со стенами, покрытыми резными надписями. Эти комнаты принадлежали двум разным сооружениям – за один день Лейард нашел не один, а два ассирийских дворца. В результате он увеличил бригаду в два раза – до одиннадцати рабочих. Позже он еще раз расширил ее, теперь до тридцати человек.
Из найденных Лейардом надписей в конце концов стало ясно, что северный дворец построил правитель по имени Ашшурнацирапал II. Двести лет спустя правитель по имени Асархаддон построил южный дворец. На территории памятника также есть центральный дворец, построенный Тиглатпаласаром III – его обнаружили позже. Также построить на этом месте здания и монументы приказал сын Ашшурнацирапала II по имени Салманасар III. В общей сложности правители возводили здесь свои сооружения более двухсот лет, с 884 по 669 г. до н. э.
После Лейарда другие археологи продолжали раскопки в Нимруде почти до сегодняшнего дня. Совсем недавно, в марте 2015 года, это место снова попало в новости. Тогда боевики ИГИЛ (запрещенная в России террористическая организация) опубликовали видео, на котором они бульдозерами и кувалдами разрушают археологические памятники и уничтожают находящиеся в Музее Мосула артефакты из Нимруда.
О своих удивительных открытиях в Нимруде Лейард опубликовал книгу. Среди них Черный обелиск Салманасара III – столб высотой более двух метров, покрытый надписями о подвигах царя. Там упоминается библейский Ииуй, царь Израиля. Книга вышла в 1849 году и мгновенно закрепила его репутацию как археолога, бесстрашного искателя приключений и талантливого писателя. Лейард назвал книгу «Ниневия и ее руины», потому что думал, что раскапывает именно ее. Это был неудачный выбор названия. Когда Роулинсон расшифровал надписи с этого памятника, стало ясно, что на самом деле это древний город Кальху, он же библейский Калах, а вовсе не Ниневия.
Кальху был второй столицей, построенной ассирийцами. Первой был сам Ашшур. Статус столицы принадлежал Кальху почти 175 лет, с 879 г. до н. э. до 706 г. до н. э. После этого Саргон II ненадолго сделал столицей Дур-Шаррукин, а затем Синаххериб перенес ее в Ниневию. Но где же Ниневия? На тот момент никто еще ее не нашел.
* * *В 1849 году Лейард вернулся в Мосул на еще один сезон раскопок, которые продолжались до 1851 года. На этот раз он сосредоточился на Куюнджике – холме, который Ботта покинул за семь лет до этого. Теперь у него было достаточно денег, чтобы нанимать до трехсот рабочих одновременно – в десять раз больше, чем в Нимруде.
Лейарду повезло больше, чем Ботта. Его бригада сразу раскопала стены с рельефами и изображениями. Они принадлежали дворцу, построенному Синаххерибом, который правил с 704 по 681 г. до н. э. Сначала Лейард называл его «юго-западным дворцом». Там он обнаружил то, что мы сейчас называем «Библиотекой Ашшурбанипала» – две большие комнаты, на полу которых глиняные таблички были сложены на тридцать сантиметров в высоту. Когда началась их расшифровка, стало очевидно, какое на самом деле название носил дворец – «Несравненный». И на этот раз наконец переведенные Роулинсоном таблички подтвердили, что это и была древняя Ниневия – Синаххериб перенес ассирийскую столицу из Дур-Шаррукина в Ниневию после того, как взошел на трон.
Сегодня дворец Синаххериба, вероятно, наиболее известен комнатой, которую иногда называют «лахишской». Здесь Лейард обнаружил на каменных плитах барельефы с изображениями и надписями, которые описывают захват Синаххерибом города Лахиш в 701 г. до н. э. В то время Лахиш был вторым по важности городом Иудеи. Синаххериб напал на него перед тем, как продолжить осаду Иерусалима.
Захват Лахиша описывается в Ветхом Завете (4-я Царств 18:13–14), как и осада Иерусалима. Открытие Лейарда было одним из первых случаев, когда событие из Библии подтвердили так называемыми «внебиблейскими» (не относящимися к ней) источниками.
Почти за тридцать лет до того, как Лейард нашел этот дворец, лорд Байрон увековечил этот библейский рассказ в своем стихотворении «Поражение Синаххериба», опубликованном в 1815 году. «Ассирийцы – волками – спустились к нам с гор. Золотым и пурпурным был цвет их когорт. Блики копий их острых сравнимы числом с блеском волн Галилейских на море ночном»[4].
Последующие раскопки на месте Лахиша на территории современного Израиля, сначала в 1930-х годах, а затем в 1970-х и 1980-х, подтвердили, что город был разрушен примерно в 701 г. до н. э. Они также обнажили ассирийскую осадную насыпь, сооруженную из тонн земли и камней. Они очень похожи на насыпи, изображенные на барельефах Синаххериба.
Барельефы Ниневии полны жутких сцен – например, изображений пленников, которым вырывают языки и снимают заживо кожу, а также отрубленных голов, насаженных на шесты. Хорошо известно, что это не пустое хвастовство – ассирийцы действительно совершали подобные зверства. Впрочем, изображения во дворце Синаххериба, скорее всего, служили в первую очередь пропагандой – чтобы другие царства не восставали против ассирийцев. Вероятно, иностранным послам показывали эту комнату в сердце дворца, чтобы они увезли домой предостережение: не стоит ни воевать с ассирийцами, ни как угодно им мешать.
* * *О раскопках дворца Синаххериба в Ниневии Лейард говорил так: «Залов, комнат и проходов в великолепном здании, которое я открыл, было как минимум семьдесят один, и их стены почти без исключения были обшиты резными плитами из алебастра». Он подсчитал, что его рабочие вырыли достаточно туннелей, чтобы обнажить больше 3 километров таких стен вместе с двадцатью семью дверными проемами, обрамленными огромными крылатыми быками и львами-сфинксами.
Следует отметить, однако, что Лейард был дипломатом, а не археологом. Впрочем, Ботта тоже не был профессионалом. Брайан Фейган резко заявил: «По сегодняшним стандартам раскопки Ботта и Лейарда были ужасающими». В частности, при раскопках Лейард пользовался методом, который мы никогда не используем в современной археологии. Его рабочие копали прямую траншею вглубь холма, пока не натыкались на каменную стену, а затем прокапывали тоннель вдоль этой стены. Когда эта стена пересекалась с другой, они поворачивали за угол и копали тоннель вдоль нее – и так далее, пока не прорывали траншеи вдоль всех четырех краев помещения. Ботта и его команда делали, по сути, то же самое.
Работая таким образом, Лейард обнаружил многие из расписанных плит, из которых состояли стены, и огромные статуи. Но это также означало, что он зачастую не расчищал середину помещения. Кроме того, его не особенно интересовала керамика, которую рабочие обнаруживали в ходе раскопок. Многие плиты выслали в Британский музей, где их можно увидеть и сегодня, а некоторые, найденные как здесь, так и в Нимруде или Хорсабаде, оказались в музейных коллекциях по всему миру, в том числе в Дартмутском колледже и Амхерст-колледже в Соединенных Штатах.
* * *Потребовалось приложить огромные усилия, чтобы доставить эти предметы в Британский музей – или в Лувр в случае Ботта и его преемника Виктора Пласа. Находки Ботта встали на экспозицию в Лувре в мае 1847 года, опередив Лейарда и Британский музей на несколько месяцев: их экспонаты не выставлялись до сентября того же года. Чтобы отправить свои находки во Францию, Ботта в какой-то момент построил целую повозку с колесами диаметром почти в метр – только чтобы обнаружить, что она настолько тяжелая, что даже двести рабочих не могут сдвинуть ее с места. Аналогичные проблемы были и у Лейарда при транспортировке находок в Англию.
Виктору Пласу, сменившему Ботта в Хорсабаде, не повезло больше всех. Именно под его руководством в мае 1855 года от двухсот до трехсот ящиков, набитых древностями, утонули в реке Тигр во время отправки во Францию. Бандиты перехватили конвой, когда он сплавлялся вниз по Тигру после остановки в Багдаде. Когда они поняли, что груз – не золото, они из мести перевернули лодки и убили нескольких членов экипажа. Целые ящики драгоценных и невосполнимых древних находок быстро пошли прямо ко дну реки. Почти сто двадцать из них содержали древности из Хорсабада, а еще шестьдесят восемь – скульптуры из дворца Синаххериба в Ниневии, которые Пласу разрешили отправить в Лувр, хоть их и раскопала британская экспедиция. Были там и артефакты из других мест Месопотамии, которые обнаружили французы в Вавилонском царстве. В конечном итоге нашли только семьдесят восемь ящиков. Сетон Ллойд, один из величайших британских археологов недавнего времени, назвал эту катастрофу «одной из самых ужасающих в истории археологии». Остальные артефакты так и не нашли. Исследование этого участка реки с использованием современных технологий дистанционного зондирования всё еще может быть крайне полезным.
* * *А находки продолжали появляться. В 1853 году, за два года до катастрофы на Тигре, местный археолог, протеже и преемник Лейарда в Ниневии Ормуз Рассам, обнаружил на этом месте дворец Ашшурбанипала – прямо под носом у Виктора Пласа, проводившего раскопки там же. Ашшурбанипал, внук Синаххериба, правил с 668 по 627 г. до н. э. Рассам и его рабочие три ночи подряд тайно раскапывали спорный участок холма, – и когда их траншеи впервые обнажили стены и скульптуры дворца, Пласу оставалось только поздравить их с находками.
Настала очередь Рассама найти во дворце огромную библиотеку клинописных текстов, такую же, как Лэйард ранее обнаружил во дворце Синаххериба. Обычно считается, что 25 тысяч табличек ассирийского государственного архива хранили в обоих дворцах, хоть их и разделяло два поколения. Теперь все они находятся в Британском музее.
Тексты, которые Рассам нашел во дворце Ашшурбанипала, часто называют «царской библиотекой». Помимо государственных документов, которые дают нам всесторонний портрет политики, экономики и социальной картины Ассирийской империи, там также находятся религиозные, научные и литературные тексты, которые Ашшурбанипал поручил писцам собирать и переписывать по всей империи. Это была одна из великих библиотек Древнего мира – возможно, она была достойна стоять в одном ряду с гораздо более поздними Пергамской и Александрийской библиотеками. Среди табличек были, в частности, списки «Эпоса о Гильгамеше» и вавилонской истории о Всемирном потопе.

Крылатый бык с головой человека, Дур-Шаррукин (современный Хорсабад)
Историю о Потопе впервые перевел Джордж Смит, лондонский гравер банкнот, который подрабатывал ассириологом-любителем в Британском музее. Именно в 1872 году, почти через двадцать лет после находки Рассама, Смит начал складывать воедино фрагменты большой таблички. Он был поражен, когда осознал, что перед ним рассказ о Всемирном потопе, очень похожий на ветхозаветный, который пережил Ной. В рассказе, который теперь был перед Смитом и который оказался одиннадцатой табличкой из «Эпоса о Гильгамеше», выжил не Ной, а человек по имени Утнапиштим. Когда в декабре 1872 года он объявил о своем открытии на встрече Общества библейской археологии, весь Лондон гудел от восторга.
Впрочем, проблема была в том, что в середине таблички отсутствовал большой фрагмент – как раз в той части, где начиналось всё самое интересное. Поэтому Daily Telegraph, одна из газет того времени, пообещала тысячу британских фунтов любому, кто отправится искать недостающий фрагмент. Сам Смит тоже решил попробовать, хотя он никогда не был в Месопотамии и не имел археологического опыта. Недостающий кусок он обнаружил в первую же неделю в Ниневии.
Как вообще ему это удалось? Оказывается, очень просто: он рассудил, что рабочие, которые нашли другие фрагменты этой же таблички, могли просто пропустить этот кусок. Поэтому он не стал снова раскапывать холм, а пересмотрел отвал – так археологи называют огромный искусственный холм, который ученые и рабочие создают, выкапывая землю во время раскопок памятника.
В этих кучах не должно быть древних артефактов, но отвал в Ниневии ими просто полнился: рабочие копали крайне быстро и часто выбирали из земли попадавшиеся объекты, будь то керамика или глиняные таблички, крайне небрежно. Смит нашел не только недостающий фрагмент, за которым приехал, но также и около трехсот других фрагментов глиняных табличек, которые рабочие пропустили и выбросили. Когда он вернулся в Лондон, эта часть подошла к его табличке о потопе как влитая.
Но это была только одна из многих версий истории о потопе. Совсем недавно, в 2014 году, ассириолог из Британского музея Ирвинг Финкель объявил, что нашел еще одну. В этой версии выжил человек по имени Атрахасис. Что по-настоящему интересно в табличке Финкеля – так это форма ковчега. По всей видимости, ковчег там круглый, а не такой, каким мы его обычно себе представляем. Табличка находится в частной коллекции. Впервые владелец показал ее Финкелю в 1985 году, но не оставил достаточно надолго, чтобы он успел ее перевести. Только в 2009 году Финкель смог снова получить к ней доступ и начал перевод[5].
* * *Раскопки XIX века в Нимруде, Ниневии и Хорсабаде, а затем в Уре, Вавилоне, Ниппуре, Уруке и других памятниках открыли эру исследований этого региона, которая продолжается и сегодня. Проведенная в Месопотамии археологическая и лингвистическая работа пролила свет на истоки по-современному сложной культуры и на то, как их ранние новшества во многом сформировали нашу жизнь сегодня, от политики и права до математики, медицины, образования, налогов и всего-всего остального.
Оглядываясь на этих ранних археологов, некоторые современные ученые обсуждают, должны ли мы считать их частью европейского колониализма того времени и должны ли, соответственно, воспринимать их работу как попытку присвоить себе историю других народов – или же они просто участвовали в соревновании, которое музеи спонсировали и финансировали ради собственной выгоды. Однако даже если их внутренняя мотивация была именно такой, вот что стало конечным результатом: Лейард, Ботта и другие исследователи помогли пролить свет на ассирийцев, вавилонян и шумеров, а также на другие ранее неизвестные или не обнаруженные общества, и углубили наше понимание истоков западной цивилизации. Есть и другая проблема – стоит ли теперь вернуть артефакты в страны их происхождения? Это закономерный вопрос, но мы должны учитывать беспорядки, охватившие Ближний Восток по крайней мере с начала 1990-х годов и продолжающиеся и сегодня – от Ирака до Сирии.
Совсем недавно, в 1988 году, иракские археологи совершили впечатляющие открытия в Нимруде, обнаружив гробницы нескольких ассирийских цариц времен Ашшурнацирапала II в IX в. до н. э. Погребальные дары включали в себя невероятные золотые ожерелья, серьги и другие сокровища. Сначала они пропали во время Войны в Персидском заливе, но оказалось, что их спрятали в банковской ячейке, а теперь благополучно обнаружили и исследовали. В других местах региона после приостановки начала 1990-х годов также возобновляются работы. Будет интересно увидеть, что же откроет следующее столетие археологических экспедиций.
5
Исследуя джунгли Центральной Америки

Одним из самых захватывающих достижений последних лет в майянистике стало открытие, сделанное в 2009 году. С помощью современной системы LiDAR, установленной на двухмоторном самолете, команда археологов сумела создать карту скрытого города майя Караколь в Белизе. Всего за четыре дня им удалось доказать, что на большой территории, казавшейся непроходимыми джунглями, на самом деле скрывались здания, дороги и другие элементы огромного города, полностью поглощенного растительностью.
Название LiDAR расшифровывается как «Light Detection and Ranging» («обнаружение и определение расстояния с помощью света»). Это технология дистанционного зондирования, которая работает подобно радару, но использует свет лазера для создания высокоточных измерений, посылая лазерные лучи к земле и формируя трехмерные изображения с сотнями тысяч точек данных. Обычно ее применяют с борта самолета, и она оказывается особенно полезной в местах вроде Центральной Америки, так как позволяет «видеть сквозь листву» джунглей и тропических лесов и находить затерянные храмы, здания и даже целые города, скрытые зарослями.
Проблема всех (или, по крайней мере, большинства) городов майя заключается в лесах, которые со временем выросли над руинами и на долгое время скрыли их от внешнего мира. Даже сегодня, если не ухаживать за раскопанными участками и не поддерживать их в порядке ради туристов, джунгли быстро вновь поглотят развалины. Многие города до сих пор остаются скрытыми, и именно поэтому даже в 2014 году исследовательские группы продолжали находить новые города майя в других районах региона. Один из исследователей заметил: «В джунглях можно находиться всего в двухстах метрах от крупного города и даже не подозревать об этом». Технология LiDAR способна изменить эту ситуацию: с ее помощью можно не только находить потерянные города, но и составлять их подробные карты за считанные дни или даже часы вместо недель, месяцев и даже лет, которые обычно требуются для таких работ.
* * *В 1750 году «отряд испанцев, путешествовавший по внутренним районам Мексики, обнаружил среди необъятной пустоши древние каменные здания, остатки некогда большого города». Испанские исследователи, без сомнения, были поражены, увидев огромные постройки, полностью оплетенные лианами, с пробившимися сквозь окна деревьями. Теперь мы знаем, что они наткнулись на город майя Паленке.
Хотя известие об открытии распространилось довольно быстро, серьезного внимания ему сначала не уделили. Лишь спустя более тридцати лет, в 1784 году, король Испании отправил еще одного исследователя для проверки слухов. В течение следующих пятидесяти лет на место прибывали дополнительные испанские экспедиции, а в 1822 и 1835 годах были опубликованы первые отчеты на английском языке, однако широкой огласки находка вновь не получила. Открытие Паленке оставалось практически незамеченным в западном мире до 1841 года, когда американский путешественник Джон Ллойд Стефенс опубликовал рассказ о своих поездках в этот район и познакомил широкую публику с древним городом – менее чем за десятилетие до того, как Лэйард начал рассказывать о своих находках в Месопотамии.
Стефенс был поражен тем, как мало внимания уделялось Паленке до выхода его книги Incidents of Travel in Central America, Chiapas and Yucatan. Описав первоначальное обнаружение города в 1750 году и последующие исследования испанцев, он отметил: «Если бы подобное открытие было сделано в Италии, Греции, Египте или Азии, в пределах досягаемости европейских путешествий, оно вызвало бы интерес, не уступающий открытию Геркуланума, Помпей или руин Пестума». Его экспедиции по Центральной Америке вместе с британским художником и архитектором Фредериком Катервудом изменили ситуацию. Их путешествия привели к созданию бестселлеров, в которых они рассказали о находке множества городов майя, большинство из которых до того были неизвестны широкой публике.
Конечно, Стефенс и Катервуд были далеко не первыми иностранцами, побывавшими в этих местах. Вместо проведения серьезных раскопок они в основном исследовали развалины, расчищали деревья и подлесок, составляли планы и делали зарисовки. Тем не менее, именно благодаря опубликованным ими рассказам руины Центральной Америки привлекли внимание всего мира. Таким образом, они фактически положили начало тому, что сегодня называется археологией Нового Света. Как отмечают ученые, это произошло за тридцать лет до того, как Генрих Шлиман начал раскопки в Трое, и более чем за восемьдесят лет до открытия гробницы Тутанхамона Говардом Картером.
Стефенс в юности получил классическое образование, изучив древнегреческий и латинский языки, и поступил в Колумбийский университет в тринадцать лет. Уже в двадцать лет он стал юристом, но практически не занимался адвокатской практикой, предпочтя путешествия по Европе и Ближнему Востоку – в частности, по Греции, Турции, Египту и Иордании. Его путевые заметки быстро сделали его знаменитым и обеспечили ему финансовую независимость.
Катервуд был старше Стефенса на несколько лет. Став друзьями, они решили вместе отправиться в Центральную Америку. Их целью было отыскать древние города цивилизации, которую мы сегодня называем майя. В 1839 году они выехали из США, рассчитывая посетить три известных им поселения – Копан, Паленке и Ушмаль. Однако в итоге за две экспедиции они осмотрели почти пятьдесят городов, включая Чичен-Ицу.
Рассказ о своих путешествиях они опубликовали в 1841 и 1843 годах. Стефенс подробно описал не только архитектурные памятники, но и болезни, которые им пришлось пережить: малярию, заражение личинками насекомых под ногтями и множество других недугов, иные из которых ставили их жизни под угрозу. Прочитав эти живые и честные рассказы, трудно поверить, что им удалось не только выбраться из джунглей, но и вернуться в США (причем дважды).
Стефенс был внимательным наблюдателем – человеком, который умел сопоставлять увиденное в Старом Свете с тем, что открывал в Новом. Благодаря своему опыту путешествий на Ближний Восток он смог правильно заключить, что такие города, как Копан и Паленке, были построены не египтянами и не выжившими жителями Атлантиды, как предполагали ранее, а коренным населением этих мест – майя.
Сравнив пирамиды, колонны и скульптуры Копана с египетскими, он писал: «Если я не ошибаюсь, перед нами вывод гораздо более интересный и удивительный, чем попытки связать эти города с египтянами или каким-либо другим народом… Вопреки всем прежним домыслам, я склонен думать, что [эти руины] были сооружены народами, населявшими страну во времена испанского завоевания, или их не столь давними предшественниками».
Стефенс и Катервуд тщательно зарисовывали иероглифические надписи, высеченные на памятниках Копана и других городов. Стефенс был уверен, что расшифровка этих иероглифов однажды откроет историю майя. Он писал:
Я верю в одно: их история запечатлена на их памятниках. Пока еще не нашелся тот Шампольон, который бы с энергией пытливого ума взялся за них. Кто же их прочтет?
Он возвращался к этой мысли вновь, отмечая:
Я не могу избавиться от убеждения, что… иероглифы все же будут прочитаны… Веками египетские иероглифы оставались непостижимыми, и хотя, возможно, это произойдет не на нашем веку, я твердо верю, что будет найден ключ, еще более надежный, чем Розеттский камень.



