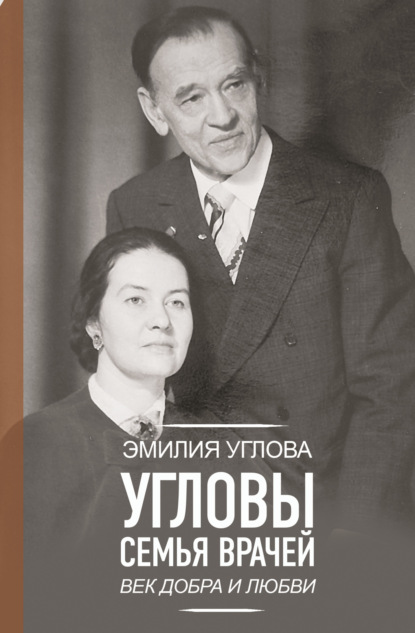
Полная версия:
Угловы. Семья врачей. Век Добра и Любви
Немцы утверждали в своих лозунгах: «Кто не работает, тот не ест». Работа заключалась в обслуживании немцев: уборка, стирка и т. д.
Вместо сгоревшей школы немцы оборудовали длинное здание, бывшее общежитие, чтобы учить детей и молодежь немецкому языку.
Мама попробовала пойти туда, надеялась получить работу учителя по математике. При входе она увидела большой портрет Гитлера. Мама сразу попятилась назад, вышла и уже больше никогда туда не заходила. Жителей поселков немцы выгоняли из домов и квартир. Люди переселялись в подвалы, сараи, кухни. Маму с детьми и матерью выселили в сарай. Хорошо, что стоял конец мая 1942 года с теплой погодой. Немцы бросали нам в сарай пустые консервные банки, и мы облизывали остатки консервов.
Рядом, в соседнем сарае, люди прятали учительницу, еврейку, рискуя своей жизнью. Потом ночью ее увезли партизаны. Население жило впроголодь. Если удавалось обменять вещи на продукты, то в доме появлялся хлеб, вареный буряк (свекла), морковь, картофель, иногда подсолнечное масло. Чай варили из сушеной моркови. В пищу часто употребляли очистки картофеля, которые оставались у немцев, часто прогнившие. Из этих очистков люди делали оладьи или просто варили.
* * *Под Артемовском шли активные боевые действия, в них участвовали отряды партизан и подпольных групп. Накануне отступления Красной армии в Сталинской области была создана большая, разветвленная сеть подполья, которая затем осталась на занятых врагом территориях. Его задача состояла в том, чтобы создавать невыносимые условия для оккупантов, уничтожать фашистов.
Условия для партизан были очень трудные. Отсутствовали крупные лесные массивы, вокруг голая степь, приходилось менять фамилии, имена, отчества. При проверке новых документов людей часто арестовывали, а при малейшем подозрении – расстреливали.
Но несмотря на все трудности условий ведения партизанской войны, партизаны совершили пеший путь в 700 км и достигли Брянских лесов. Для Надежды Ивановны Стрельцовой (моей бабушки), матери Виктора Кузьмича Стрельцова, с началом войны не было вопроса, что ей делать и куда идти. Она сразу решила связаться с партизанами и вести подпольную подрывную деятельность против немцев. Это была волевая, несгибаемая женщина.
Пережив гибель мужа, исчезновение двух сыновей, арест и ссылку младшего Виктора, она ни минуты не сомневалась, что должна сражаться с врагами своей страны. Она хорошо знала историю, была политически грамотна и понимала, что в судьбе Виктора сыграли роль вражеские элементы, окопавшиеся внутри страны, ненавидящие Россию и русских, возможно, имевшие связь с иностранными разведками. Она считала, что эти люди, вкравшиеся в наши органы власти, имели влияние на начало и ход войны, были связаны и с немецкой и английской разведкой. И мужа они убили, и войны они развязывают, чтобы убивать как можно больше простых неугодных им людей. Они устраивают заговоры, стоят у руководства всех государств, жиреют и уничтожают всех, кто их понимает и может поставить преграду их зловредной деятельности. Англичане и американцы всегда стремились установить свой мировой порядок, свое мировое правительство. И первую мировую войну они развязали, и вторую тоже. А немцы – марионетки в руках этих воротил, тем более что по природе своей – это грубые националисты, жаждущие захвата чужих территорий, чтобы урвать для себя как можно больше благ за счет чужих, ненужных им жизней.
Скажут, а как же Бетховен, Гёте, Вагнер? Ну, во-первых, гении всегда выходят за пределы национальностей, неизвестно, сколько веков и народов работало над созданием каждого из них. А во-вторых, никто не рассматривал структуру и генетику каждого гениального человека. Вообще, это вопрос сложный, но в отношении немецкой нации хорошо бы хоть когда-нибудь разобрать их природу, понять, отчего все века они всегда воевали и стремились к завоеванию чужих земель.
В Артемовске была сформирована подпольная группа, и Надежда Ивановна стала руководителем подпольщиков. Подпольщики передавали сведения в центр в город Сталино о расположение фашистских группировок, об аэродроме, где дислоцировались фашистские самолеты, которые поднимались в воздух и бомбили наши части.
На территории области было создано 180 партизанских отрядов и групп, в состав которых входило более 4 тысяч человек. Партизанское и подпольно-патриотическое движение помогало боевым действиям на фронте, но больше всего партизаны гибли от рук карателей.
Изменив свою фамилию и имя, Надежда Ивановна собирала своих товарищей в отдалении от города, в заброшенной местности, в перелеске, в одном из полусгнивших домов. Собирались, обсуждали план действий, который получали от связных с центром, и расходились для выполнения специальных заданий. Распространяли среди населения листовки и воззвания. Десятки вражеских эшелонов с боевой техникой, боеприпасами, снаряжением и гитлеровскими солдатами, отправляющимися на восточный фронт, были пущены под откос.
30–31 октября 1941 года немцы вошли в Артемовск и установили там жестокий террор, как и во всем Донбассе. Партизаны вынуждены были тайком пробираться в сторону Брянских лесов. Пробирались малыми группами или поодиночке, чтобы не вызвать подозрение немцев, часто теряли связь между собой. Надежда Ивановна не сумела уйти со всеми, не смогла связаться с подпольщиками и осталась одна в городе. Ей помогали несколько человек из местного населения.
Наступала глубокая осень. Холодела земля, темнели, удлинялись осенние ночи. По утрам стелился холодный густой туман, часто сыпался на землю моросящий дождь. В эту ночь над городом раздались залпы орудий. К полуночи пронесся ветер, за ним потянулась густая прохлада, небо нахмурилось, и из нависшей черной тучи полил дождь, шумом нарушая возникшую на мгновение тишину.
Надежда Ивановна, переполненная ненавистью к захватчикам и их бесчинствам, ходила по знакомым улицам своего города, находила дома, где квартировали немцы, и бросала в окна бутылки с зажигательной смесью. Еще было далеко до утра. Бросив последнюю бутылку в дом, где размещалась комендатура, Надежда Ивановна быстрыми шагами ушла, свернув с главной дороги, и пошла к переулку, где раньше было здание исторического музея. Неожиданно она наткнулась на патрулировавшего немца. Он остановил ее. Увидев, что над зданием комендатуры пылает огонь, фашист отвел Надежду Ивановну к своему начальнику, после чего ее поместили в подвал. Бабушку мою пытали, требовали выдать сообщников – партизан, но она отвечала, что действовала сама, по собственной инициативе, мстила за то, что они пришли в ее родной город, разрушили мирный порядок. Разграбили город, уничтожили жителей.
Не добившись от нее ничего и поверив в то, что она действительно была одинока в своих действиях, немцы бросили ее в алебастровую шахту на заводе шампанских вин. Туда по распоряжению немецкого генерала фон Уобеля завели еще 11 тысяч человек, в основном славян, и пустили газ. Шахту замуровали.
Это произошло 11 января 1942 года. Когда в 1943 году советские войска вошли в Артемовск и вскрыли шахту, то увидели страшную картину. Люди, заживо замурованные в шахте, стояли, тесно прижавшись друг к другу. В 1997 году я ездила в Артемовск, просматривала архивы, в которых были списки погибших, но бабушку свою я в них не нашла, она была под другой фамилией. Весь рассказ о ней я услышала от женщины, которая ее хорошо знала, жила по соседству с ней. До войны бабушка была директором исторического музея, куда перевезла свою великолепную библиотеку. У этой женщины, Галины, муж-инвалид тоже был в партизанах, и она передала мне маленькую фотографию, на которой была бабушка вместе с партизанами в лесу. Других ее фотографий у меня не было.
Отец мой в это время отбывал ссылку на далекой Колыме, арестованный советскими властями, – даже воевать за Родину его не пустили. А когда вернулся из ссылки в 1949 году, узнал о трагедии с его матерью, с трудом перенес это известие. А тут еще у мамы был второй муж и ребенок (Валерию было уже 8 лет). В общем, отец стал пить – заливать свое горе водкой. Какой он талантливый был человек, и как погубили его свои же власти, исковеркали ему всю жизнь. Недолго он был на свободе. Вскоре пришло указание, что всех по той же статье необходимо сослать на вечное поселение, и отца снова отправили на Колыму. Только спустя несколько лет, когда вышел указ об амнистии, отец смог приехать на свою родину со справкой о реабилитации.
Отец приехал в Артемовск, но квартира его была уже занята. Приехал к нам на шахту «Комсомолец». Хотя мама и была одна с двумя детьми и старенькой мамой, отношения у них не сложились. Он уехал в Донецк. Вначале он жил у дяди Лени, а потом устроился на работу на окраине Донецка на химзаводе. Туда он уехал, чтобы больше его не трогали. Психика его была надломлена, он боялся стука в дверь, думал, что за ним снова пришли. На заводе он сделал несколько рационализаторских предложений. Он был на хорошем счету, о нем писали в газете.
…Спустя много лет, в 1972 году, он тяжело заболел, появился неизлечимый рак желудка, и он мне впервые письмо, просил о помощи. А я? Мне до сих пор стыдно вспоминать о своем поступке. Не зная причин, которые препятствовали встрече со мной все эти годы, я, побуждаемая обидой и еще не знаю чем, не пригласила его к себе в Ленинград. Ведь муж мой, великий хирург, смог бы сделать такую операцию, которая продлила бы ему жизнь. Я ответила ему, что в Донецке в Мединституте работает профессор Подоненко Анна Павловна, заведующая кафедрой госпитальной хирургии, специалист по заболеваниям желудочно-кишечного тракта, ученица моего мужа. Я написала ему адрес Анны Павловны, позвонила ей, попросила прооперировать отца. Анна Павловна прооперировала его, но, как она мне потом рассказала, было поздно, болезнь осложнилась метастазами. А я была наказана тем, что не встретилась с отцом, не услышала от него рассказ о его тяжелой жизни в ссылке и об этом так ничего и не узнала.
Умирал он тяжело, когда мама его навещала, он просил ее только об одном – принести ему воды из родника.
Когда было объявлено, что дети репрессированных родителей могут получить удостоверение как пострадавшие от репрессий, я со своей сестрой Майей поехала в Донецк на тот химзавод, на котором работал отец. Мы шли через большую территорию завода, закутав нос и рот от режущего газа, желтого от серной кислоты. Я думала тогда, как же бедный отец ежедневно ходил по этой территории, да еще и работал смену.
В отделе кадров мне выдали справку о том, что в 1972 году он уволился в связи с тяжелым заболеванием. Потом мы еще раз приезжали с сыном Гришей, искали квартиру, где последние годы жил отец. Он жил вместе с женщиной, у которой был репрессирован и погиб в ссылке муж. У них было общее горе. Женщина эта, Надежда Федоровна Кубэ, к тому времени тоже умерла. Хозяева, у которых они снимали комнату, сказали, что место на кладбище они не могут показать из-за болезни ног. Мы с Гришей справились в кладбищенской конторе, но нам ответили, что списки умерших в те годы сгорели и нет возможности найти место захоронения. Мы обошли почти все кладбище, но могилу отца так и не нашли. Многие надписи над могилами были закрашены белой краской. Наверное, так закрашивали надписи на тех могилах, за которыми никто не ухаживал. Мы взяли горсть земли с самого кладбища, чтобы принести ее к могиле мамы, вышли за ограду, разложили привезенные с собой продукты и помянули отца. Воспоминания были короткие, так как я о нем мало знала, лишь кое-что из рассказов мамы.
Так и закончилась жизнь моего отца. И только то немногое, что я о нем помню, написала здесь. Говорят, за грехи Господь накажет, а если будешь просить о прощении – простит. Господь, может быть, и простит, но сама себя я простить могу? Ведь ничего нельзя изменить, и вот в этом, несмотря на покаяние, заключается наказание. Все это уже поздно. Отец, прости меня за все.
…В 1941 году в последнем письме к маме отчим писал, что остается в подполье в Харькове. Но вскоре родители его, Елена Павловна и Иван Константинович, получили от него письмо, в котором он извещал, что завтра (был где-то конец июля) он эшелоном отправится в Киев, чтобы пройти ускоренную военную подготовку и вместе с партизанами будет учиться стрелять, передвигаться по-пластунски, минировать мосты и дороги, бросать гранаты и т. д. Владимир писал, что пока обстановка очень тяжелая и увидеться еще долго не придется.
Известно, что первая схватка частей Красной армии вместе с партизанами состоялась под Киевом в районе села Казанцы. Они разгромили немецкий десант. Затем отряд переправился через реку Тетерев Житомирской области у села Макалевичи и оказался в тылу врага.
В конце августа немцы в боях с партизанами потеряли штаб крупного воинского соединения – 50 солдат и офицеров, но затем от беженцев партизаны узнали, что в середине сентября наши войска оставили Киев. Отряд оказался в глубоком тылу врага, и связь с большой землей была прервана. Писем от Владимира больше не приходило. Под влиянием общего большого горя чувство собственной беды немного притупилось.
Один муж мамы, мой отец Виктор, отбывал ссылку на далекой Колыме, второй муж, Владимир, – на войне, развязанной Гитлером, неизвестно, что с ним и где он. Какие-то странные стечения обстоятельств. Мама старалась не думать о своих бедах: у нее двое маленьких детей и старенькая мать, нужно спрятать все свои чувства, личные переживания и думать о том, как спасти детей и мать. «Дети должны выжить – должны. И я для них сделаю все, что в силах и даже больше. Надо их уберечь, они еще не жили. Нужно сделать все, чтобы дожить до Победы, а потом будет лучше» – так думала мама, такие мысли постоянно носились в ее голове, и она собирала всю свою волю, чтобы мысли могли бодрить ее, помогали бы ей нести трудную ношу, доставшуюся в жизни. Бабушка моя мечтала о том, чтобы свободно, не по карточкам можно было достать хлеба и сахара – поесть вволю, а потом и умирать можно.
Хлеб и сахар выдавался по немецким карточкам тем, кто работал, а мама не работала. Мама не могла работать в школе, где висел портрет Гитлера. Из бывшего состава учителей там работала одна Зинаида Яковлевна – преподаватель немецкого языка. Коллеги осуждали ее. Сами они не хотели работать на немцев и тоже бездействовали. После войны Зинаида Яковлевна куда-то исчезла, и никто о ней ничего больше не слышал.
Февраль 1942 года был очень лютый. Морозы доходили до 40 градусов. По оледенелым степям ветер кружил снежную метель, завывая и запорашивая огороды, дворы и дороги, которые не очищались, и по ним можно было с трудом передвигаться. Ночь наступала рано. В 4 часа дня уже было темно, и в окнах появлялись слабые, бледно-желтые отсветы от зажженных масляных фитилей, которые люди применяли вечером перед сном. Вокруг становилось пустынно, и люди старались не выходить из своих домов, оставаясь в полутемных жилищах. Окна маскировались, иногда слышался лай собак, но и они прятались от холода, где потеплее. Холод сковал улицы, дома, людей. Люди подбирали уголь, который высыпался из вагонеток, медленно проезжавших на толстых канатах в сторону обогатительной фабрики. Подбирать уголь запрещалось, это грозило расстрелом, но топить как-то надо было, и люди выходили каждый день с ведерками.
В один из морозных дней, как только наступил бледный рассвет, мама вышла со мной из дома. Нас пригласили на обед родители одной из маминых бывших учениц. Мы шли через промерзшую степь в сторону хутора. Мама покрывала мое лицо шерстяным платком, чтобы защитить от ветра. Мама сказала, что мы идем в гости, и там нас накормят. Мне было 5 лет, и я молча шла, сдуваемая порывистым ветром, держась за руку мамы и терпеливо перенося морозный ветер, сбивавший меня с ног. Шли около 5 километров, медленно, передвигаясь с трудом…
День был пасмурный, без солнца, рано начинало темнеть, поэтому мама вышла пораньше, чтобы успеть дотемна вернуться назад. Вдали показались слабые огоньки от зажженных свечей. Шли часа три. Наконец показался большой кирпичный дом с высоким забором. Залаяла собака. Навстречу выбежала девочка, укутанная в меховое пальто, ученица 6-го класса, которая продолжала учиться в школе. «Проходите, пожалуйста», – сказала девочка, открывая ворота и придерживая собаку. Замерзшие, мы с мамой вошли в дом и сразу почувствовали тепло и аромат готовившейся пищи. На печке стояла сковорода, а в ней потрескивали шкварки, залитые яичницей, еще пахло свежеиспеченным хлебом и молоком. Постепенно отогревшись и насытившись вкусной едой, я уснула в кресле. Мама не знала, как ей быть. Она понимала, что я устала, ведь мы проделали длинный путь, и как теперь меня будить, чтобы снова идти так долго.
– Да вы оставайтесь, переночуйте, а завтра утром пойдете домой, – сказала гостеприимная хозяйка.
– Спасибо. Мы все же уйдем сегодня, пусть только дочка поспит часок, – отвечала мама.
Мама привыкла всегда спать у себя дома и никогда не оставалась у чужих, чувствуя себя неловко, не могла уснуть.
– А где же хозяин? – спросила она.
– На фронте, – грустно ответила женщина. – Давно не получали от него весточки. Слава богу, пока не голодаем. Сохранилось хозяйство, есть корова, куры, поросенка недавно зарезали к Рождеству.
Затем хозяйка отрезала полбуханки хлеба, кусок сала, взяла несколько яиц и дала маме. «Это для вашей мамы и сыночка, – сказала ласково хозяйка. – Спасибо вам за Лидочку!» Мама запомнила эту встречу на всю жизнь.
После войны ученица ее продолжала учиться, но уже в другой школе и на другой шахте. Девочка училась хорошо, была скромная и добрая. Дедушку ее раскулачили, забрали корову, бычка, лошадь, кур. Но все же оставалось небольшое хозяйство. Была швейная машинка, и хозяйка брала заказы на шитье. Люди они были добрые, делились с другими, чем могли. А немцы их не трогали, потому что девочка ходила в немецкую школу. Отец ее вернулся с фронта домой инвалидом, без ноги.
Зима 1941–1942 года кроме лютой была еще и голодной. Тем, кто работал на немцев, давали карточки, по которым можно было достать хлеб, сахар, подсолнечное масло, полусгнивший картофель, кукурузную муку. У тех, кто устроился работать в столовой, кормление было лучше. Те, кто не работал, голодали. Мама выменяла на продукты все, что у нее было: ложки, ножи, вилки, стулья, табуретки, отрезы на платья и пальто.
До зимы 1943 года выручало козье молоко. Оставшуюся одну козу кормили заготовленными стеблями кукурузы и подсолнуха. Нам бабушка варила зерна кукурузы, затем перекручивала их на мясорубке, насыпала в стакан и заливала козьим молоком. Завтрак у нас был царский. Нам с Валерием доставалось по целому стакану еды, а мама с бабушкой ели то, что оставалось.
Мама и бабушка экономили, берегли еду в основном для нас, детей. Иногда доставали макуху. Это прессованные скорлупки от подсолнуха с добавлением свекольного сахара.
Донбасс под оккупантами был почти два года: с 21 октября 1941 года по 7 сентября 1943 года. В эти годы население Донбасса было подвергнуто жестокому насилию и эксплуатации солдатами гитлеровского вермахта и их союзниками: румынами, итальянцами и другими представителями европейской когорты.
Летом 1943 года, предчувствуя свое отступление, фашисты стали звереть особенно. Жителей хуторов и поселков они угоняли на Запад – в Германию.
Был теплый день. Грело солнце. Небо было по-летнему высокое и синее, плыли на юг барашковые облака, подгоняемые легким ветром. В полдень мама собирала кукурузу в сарае, как вдруг она почувствовала надвигающуюся тень сзади. Она оглянулась, к ней приближался полицейский. Он резко заявил: «Собирайся сама и собирай свою семью. Через два часа приедет автофургон, и вы поедете в Германию». Мама остолбенела. Потом засуетилась, стала одевать нас, собрала остатки какой-то еды. Время шло, а она все думала и думала. Снова появился полицейский: «Ты еще не собралась? Я скоро вернусь, и, если не будешь готова, расстреляю. Так мне приказано».
Как только он ушел, мама, не раздумывая, взяла нас с Валеркой, бабушку, и мы все вместе залезли на чердак сарая, и сидели там очень тихо. Полицейский снова появился, при нем была винтовка, он огляделся, зашел в дом. Увидев впереди отъезжавшие грузовые машины, он ушел. Вдали слышался гром канонады. Мы с мамой просидели на чердаке больше суток, боялись высунуться оттуда. Лишь много времени спустя, когда все стихло и больше не слышно было стрельбы, мама вышла на разведку. Навстречу ей бежала взволнованная соседка. Она кричала: «Наши наступают. Наши уже совсем близко». Мама помогла сойти бабушке и нам с чердака. Мы вышли вместе со всеми высыпавшими неизвестно откуда людьми встречать своих освободителей. Все шли к базарной площади, где еще совсем недавно немцы вешали партизан.
Стоял жаркий июльский день. Дорога дымилась зноем. Под солнцем лежала золотисто-бурая степь. Отряд красноармейцев входил в рудник шахты «Комсомолец». Солдаты шли по раскаленной солнцем дороге, шли уставшие, запыленные, молчаливые. Впереди себя они везли небольшую пушку на колесах. Кто-то из жителей поселка подошел к командиру отряда и указал на полицейского, прятавшегося за углом дома.
Два солдата отделились от отряда, поймали полицая и привели к командиру. Полицай еще был в немецкой форме, не успел переодеться, а немцы, уезжая, бросили его, не взяли с собой. Командир отряда тут же, без суда и следствия, без допроса, на глазах у собравшейся толпы людей расстрелял предателя.
Советские воины видели много горя за время походов, много разрушенных деревень и городов, убитых и расстрелянных мирных жителей. Накопившаяся ненависть к врагу переполняла их истерзанные горем души. К тому же война еще не закончилась. Прошло всего лишь два года войны. Конечно, бывали и такие случаи, когда полицаи, находясь на службе у врага, были партизанами.
Отряд красноармейцев подошел к базарной площади. На небольшое возвышение из каменных плит поднялся командир отряда. Уставшим голосом он сказал: «Граждане! Мы вас освободили от фашистов. Начинайте устраивать мирную жизнь! Открывайте школы и больницы, колхозы и совхозы, фабрики и шахты. Враг больше не придет сюда к вам. А мы пойдем освобождать дальше наши земли». Люди плакали и радовались, подходили к бойцам, приглашали их в дома, чтобы накормить, но освободители спешили выполнять боевые задания и уходили дальше. Тогда многие жители, разбежавшись по домам, принесли хлеб, соль, сало, кукурузу, припрятанные для своих семей, и на ходу отдавали воинам.
Мама, взволнованная от всего увиденного, пошла с нами домой. Дома заговорила радиотарелка (сосед наладил), и теперь можно было слышать сообщения Информбюро о наступлении наших войск на многих участках, захваченных немцами. Повсюду шли жаркие бои и гибли наши солдаты и мирные жители. К сентябрю подготовили здание общежития ФЗО, в котором 2 года размещалась школа и велись занятия детей под контролем немцев. Здание вымыли, вычистили, сожгли портрет Гитлера, у входа повесили красный флаг и надпись: «Школа № 11. Добро пожаловать!»
Мама и еще некоторые учителя, не уехавшие в эвакуацию и оставшиеся жить в поселке, приступили к работе. Директором школы назначили фронтовика, прибывшего из госпиталя после тяжелого ранения.
1 сентября мама привела меня в школу в первый класс. Мне исполнилось 7 лет в августе, и я не потеряла ни одного года учебы.
В школе было много трудностей. Не было тетрадей, писали вначале на газетах. И когда сейчас выбрасывают листы, напечатанные с одной стороны, а с другой чистые, я говорю: «Вы не писали на газетах». Чернила делали из сажи, а затем из каких-то химических веществ. Не было учебников. Их сожгли немцы. Но кое у кого оставались спрятанные учебники и книги. 1–2 учебника приходилось на весь класс. Дети учились упорно, с интересом, им помогали учителя и матери. Отцы у многих были на фронте или погибли. От моего отчима, Владимира Якубенко, уже два года не было никаких вестей.
Наступала холодная осень, пожелтела трава, с деревьев осыпались листья. Часто шли затяжные дожди. Птицы жались к стволам деревьев, ветки были уже голые, и птицы на них не могли долго удержаться, листьев на них уже не было, и тонкие ветви раскачивались от ветра. Над полями властвовали ветры. Приближалась зима. По утрам легкий морозец покрывал лужицы тонкой пленкой льда.
Положение на фронте было очень сложное. Сообщали о том, что повсюду идут кровопролитные бои, о том, что нашим воинам не хватает теплой одежды для наступающей холодной зимы, призывали население по мере возможности помогать фронту. По вечерам, справившись с домашней работой и подготовкой к урокам в школе, мама вязала теплые носки и варежки, вышивала кисеты, подшивала носовые платки. Потом, когда она заканчивала всю работу, собирала вещи в бумажный пакет, укладывала в большой, склеенный из бумаги конверт, надписывала его «на фронт» и относила на сборный пункт. Со сборного пункта такие конверты рассылались туда, где шли бои, и где солдаты в таких вещах очень нуждались. В стране широко развернулось всенародное движение по сбору личных средств на строительство танков, самолетов, подводных лодок. По инициативе трудящихся по всей стране собирали денежные средства на оборону.



