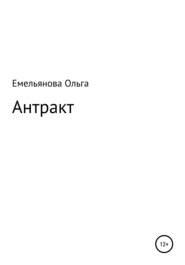 Полная версия
Полная версияАнтракт
След от гвоздя
Процесс отвыкания и возврат в одинокую жизнь был мучительным и долгим: слишком многое напоминало о недавних счастливых днях. Как в той сентиментальной песне: «…мне было довольно того, что гвоздь остался после плаща».
Молва донесла весть, что у Ивана родилась и вскоре умерла дочь. А потом случилась и еще одна трагедия: Иван вместе с другом и женой попали в шторм в открытом море в декабре. Жена и друг погибли, а его, полуживого, спасли. Говорят, что есть люди, в которых заложен элемент самоуничтожения. Здесь ситуация была посложней: на уничтожение обрекались и люди, пересекавшиеся с ним по судьбе. Среди тех, погибших, могла быть я: ведь я готова была все бросить и поехать за ним на край света: только позови!
Проходили годы, а для меня ничего не менялось: я ждала. Все реже встречающиеся поклонники задавали один и тот же вопрос, видя мой отчужденный взгляд: кто же тебя так сильно обидел? Наверно, расскажи я кому-нибудь свою историю, освободилась бы от части печали…Но не могла я этого сделать в силу того, что не понимала, как правильно расставить акценты, чтобы не выглядеть уж совсем дурочкой в этой пошлости.
Я мучительно искала ответа, почему все так получилось. А мой любимый Андерсен, с героинями которого я себя ассоциировала, успокаивал меня, что все будет хорошо, и я верила ему! Мне казалось, что достаточно я в своей жизни походила по крапиве, превращая ее в нити для вязания кольчуги любимому. И все думала: придет час, когда неожиданно спустится с небес мой возлюбленный и унесет меня с собой, пусть даже в суровые камчатские края. А потом поняла, что больше я похожа на Русалочку из сказки того же Андерсена, и больно мне ходить по земле, а мой принц уплыл на своем корабле, часто меняя по дороге возлюбленных, и забыл про меня, и что-то надо с этим делать!
Нужно было искать противоядие от этой тоски, потому что она полностью поглотила меня.
О пользе евроремонта
Побывав в Лондоне в нескольких красивых домах и возвратившись оттуда, я поняла, что вполне в силах приблизить себя к выздоровлению. Я решила сама сделать в квартире евроремонт, который тогда только входил в моду. Своим решением я убивала нескольких зайцев: убирала следы от гвоздей, забитых моим возлюбленным, и наводивших на грустные думы, меняла интерьер всей квартиры, и, самое главное – снимала со стены ковер – оплот нашего несостоявшегося семейного очага. Как я мечтала потоптать его своими ногами! Глуповатое, наверно, желание… Но я была уверена, что это поможет мне!
Ремонт я сделала. И ковер теперь уже лежал на полу. И можно было топтаться по нему, стирая следы того самого призрачного неудавшегося счастья. Друзья и знакомые удивлялись моей фантазии, некоторые не понимали минимализма форм и белого цвета стен и потолка. Но немногие знали причину, которая побудила меня к этим метаморфозам.
Эти преобразования подействовали на меня как плацебо на больного: началось медленное выздоровление. Мое состояние было похоже на тот белый цвет, который окружал меня: вроде бы пустота, но она же в любой момент может превратиться в радугу…
Но белый свет так и остался белым цветом. Была какая-то бабушка, которая пристально посмотрев на меня, сказала, что выпадет мне в жизни большая, но недолгая любовь. Что прелюдия к этой любви будет длиться больше двадцать лет, а закончится она, практически не начавшись, за три месяца, скорее всего, она не знала. Но если бы и знала, разве можно говорить о таких жестоких вещах…Ведь до этой любви можно было и не дожить.
Совсем излечилась, как мне казалось, я после того, как в последний приезд домой уничтожила все наши письма. Их оказалось много. На прощанье я перечитывала каждое, стараясь восстановить хронологию и запомнить или стереть из памяти события или, скорее, ощущения той жизни. А прочитав, рвала… И чем меньше оставалось писем, тем более опустошалась моя душа: едва живой воробушек улетел.
История с письмами нашла стихотворное воплощение: автор их – моя любимая девочка Тамилочка.
В бантик завязаны,
Сложены в стопку.
Сжечь? Не по-новому!
Снять обстановку.
Стопками сложены,
В бантики связаны.
Письма ненужные
Снова запрятаны.
Врать не умеючи…
Глупые листики!
Стёрты из памяти
Прежние мистики.
Сны о запутанном,
Мысли о прожитом.
Что-то придумано,
В десять умножено.
Счастье не множится,
Письма исписаны.
В листики старые
Мысли нанизаны.
Вновь распрощаемся,
Письма ненужные,
Чуждые странницы,
Девочки южные.
По ком звонит колокол
Тот августовский воскресный день был очень жарким. Я возвратилась домой, в комнате был включен телевизор, и по всем каналам рассказывали, как героически борются в высоких кабинетах за жизнь моряков, оказавшихся в затонувшем «Курске». Пресс-секретарь что-то мурлыкал о том, как моряки лихо отстукивают морзянку, и как им стучат в ответ, мол, потерпите, братишки, мы с вами, и много-много всякой чуши.
Я вспомнила махину подводной лодки, объять которую взглядом невозможно, и некоторые экстремальные эпизоды жизни экипажа, находящегося в автономном походе, о которых рассказывал Иван. И хотелось мне прокричать этим дядям с экрана, что все, что они несут в эфир, это для совсем наивных дурачков, а таких после всех катастроф и катаклизмов осталось мало. И все, в первую очередь, они, понимают, что экипаж обречен и страшно подумать, какие муки они сейчас испытывают.
Так и сидела я, пылая гневом сама с собой во внутреннем монологе. А в это время на меня дул кондиционер, охлаждая меня снаружи, ибо изнутри меня охладить было невозможно. И к вечеру я слегла с температурой под 40 градусов. Потом мое лицо стало заплывать и стало практически неузнаваемым. Несколько дней я не понимала, что со мной происходит, но двигаться, а тем более, вставать, не могла.
Через некоторое время лицо и голова стали покрываться волдырями. Пришедший доктор сказал, что меня можно сейчас фотографировать как наглядное пособие для медицинских учебников: уж очень добротный герпес расцвел на моем лице!
Больше месяца я зализывала раны на своей многострадальной физиономии. Но зато сколько удовольствия я принесла врачам: как только я приходила на прием, сбегались все с соседних кабинетов полюбоваться на «классику жанра».
А когда болячки стали заживать, на их месте образовывались рубцы и звезды. Самая большая и красивая звезда взошла на левой стороне лба. И теперь она красуется на том же месте. Наверно, можно сделать шлифовку лица, и дефекты не будут так заметны.
Офицеры носят звезды на погонах. Мою звезду во лбу можно, конечно, считать ударом судьбы. А, может, эта та самая звезда, которую мне та же судьба выдала за необъяснимо долгую любовь к морскому офицеру. А, может быть, это перст указующий: встань и иди!
После выздоровления произошло много событий, изменивших сложившийся уклад моей жизни. Но это совсем другая история….
Прошло достаточно лет: вся молодость и зрелость, чтобы горечь о несостоявшемся женском счастье ушла или, скорее, приняла другую форму. Сейчас бы, я, наверно, могла спокойно говорить с Иваном. Кстати, эта возможность мне недавно представилась. Он неожиданно позвонил мне: почему-то решил сообщить, что уходит в поход к мысу Доброй Надежды. Я пожелала ему счастливого плавания.
А еще он сказал, что теперь у него пятая по счету жена. Последняя ли?
Ни одна струна моей души не отозвалась на этот голос. Ура, я выздоровела! А звезда во лбу осталась…
Но не тут-то было…Недавно из необъятных просторов «Одноклассников» мне пришел неожиданный привет от моего бывшего возлюбленного. Его пятая жена очень подробно освещает хронологию их совместной жизни. И так же Иван сидит в обнимку с гитарой, и так же грустны его глаза. И на безымянном пальце его правой руки надето обручальное кольцо. Выглядит он вполне себе прилично, по-прежнему похож на Антонио Бандераса. Но, мне кажется, что он превратился в банального подкаблучника. Возможно, это и есть его истинное счастье, которое он с таким остервенением искал всю свою жизнь. Хотя, нет, не искал. Он себя нес по жизни как трофей, который надо отвоевать в неравной битве. И не все в ней уцелели, некоторые покинули поле боя. Надеюсь, ныняшняя амазонка сможет защитить свою добычу.
Пушкин, Окунев, Анатоль и Михайловское
Был у моей мамы ученик в вечерней школе по фамилии Окунев. Был он личностью неординарной: еще в застойные времена позволял себе иметь особое мнение на все события нашей жизни. Был он так искренен в своих привязанностях и неприязнях, что иногда шокировал своим поведением. Моя мама, строившая всю жизнь по критериям морального кодекса строителя коммунизма, и проецировавшая эти критерии на чаще всего абсурдную действительность, сердилась на него за то, что он не признавал никаких авторитетов и объяснял, почему. В логике ему отказать было трудно, но жить с идеалами было уютнее, поэтому мама называла его нигилистом.
Вел наш нигилист асоциальный образ жизни: в отопительный сезон работал истопником, а в неотопительный – бродил по горам и долам, сочинял стихи и лечился «ландшафтотерапией». Материальное благополучие в их семье обеспечивала жена, маленькая хрупкая еврейка. Наверно, любовь и несвойственное еврейке терпение помогали ей тянуть воз домашних проблем почти без участия парящего в эмпиреях мужа. При всем том, она не превратилась в жалующуюся на жизнь обывательницу, а несла все ноши: и зарабатывания денег, и участия в интеллектуальных мероприятиях, и путешествия вместе с мужем и сыном по горам и долам.
Одним из первых в нашем окружении Окунев понял, что дни великой державы под названием СССР сочтены, и покидать наши насиженные места все равно надо. Каждый год он отправлялся искать место в России для переезда на ПМЖ. Странным у него был один из критериев выбора: он искал вблизи этого места уютное кладбище, на котором ему захотелось бы найти свой последний приют.
После нескольких лет поисков он остановился на одной деревушке под названием Луговка в Пушгорах недалеко от Михайловского.
Наше знакомство было длительное, и на его глазах я из юной дочки учительницы превратилась во взрослую женщину. Я всегда с интересом читала его стихи, которые он приносил маме на рецензирование; если я была дома, с удовольствием слушала его речи и восхищалась многосторонности его интересов и знаний. Но приходил он к маме, и никаких обязательств я перед ним не имела. Его частые походы к нам объяснялись тем, что в силу воспитанности эти две рафинированные особы почти никогда ему не оппонировали, то есть, фактически он вел бесконечный монолог. Прелесть монолога заключалась в том, что слушатели были не равнодушные, но и не агрессивные.
А потом я стала взрослой, и в один из последних визитов к нам накануне своего отъезда Окунев подарил мне сборник стихов Пастернака с вложенным листочком, на котором было написано:
«Я знал Вас много лет:
Минутой, получасом.
В церквах есть тихий свет
Над золотом иконостаса.
По мне, тот свет есть Вы»
И подпись «Простите. Виктор»
Отбросив скромность, я горжусь этим посвящением. По-моему, это шедевр.
Конечно, мы оба были смущены: я – неожиданностью признания, он – моей недоуменной реакцией. За много лет я привыкла, что есть просто Окунев, интересная личность для бесед и походов в горы и не более того. Тем паче, в тот краткий миг я считала себя замужней и была беззаветно предана своему любимому. А, собственно, от меня ничего не требовалось: просто признать, что во мне видели много лет не только дочку любимой учительницы.
Окунев взял с меня слово в ближайшее лето приехать в гости к Александру Сергеевичу и к нему.
«Оленька, для русского интеллигента Михайловское больше, чем Мекка для мусульманина» – говорил он.
Я не спорила и вскорости приехала. Он был прав: энергетика Пушгор умножилась с энергетикой Окунева и получились сплошные именины сердца. Мы бесконечно путешествовали по близлежащим усадьбам, забредали в малинники, купались в Сороти, сидели на бархатной травке Савкиной горки…Нами было прочитано бесконечное количество стихов, переговорено на бесконечное количество тем. Мы даже танцевали в зеленом танцзале в Тригорском и познакомились с гордым красавцем петухом, принадлежащем знаменитому Гейченко, смотрителю усадьбы Михайловское.
Летом прилегающие к Михайловскому деревни наполняются московскими и питерскими дачниками. Это те самые паломники, которые из года в год на протяжении многих лет приезжают подышать воздухом Пушкина, а он на самом деле особенный!
Окунев знал всех паломников, но особо дружен был с некоторыми из них. Еще до приезда в Пушгоры я слышала от него о петербуженке Вере Давыдовне, около двадцати лет ежегодно приезжающей сюда. Однажды она пришла к нам поздороваться. Своей статью она напомнила мне Анну Ахматову. Окунев меня тоже иногда называл ею же. Вот эти две «Анны» поговорили об оладьях из кабачков, которые я жарила в это время на керогазе, и еще о каких-то пустяках, но даже эта тема казалась нам интересной и походила на задушевную беседу. Вера Давыдовна умерла через год после нашего знакомства в автобусе по пути в Михайловское. Окунев похоронил ее на том самом кладбище, которое ему приглянулось своей камерностью и золотым песочком.
Жена Окунева Люба страдала частыми и жестокими приступами мигрени. Очередной приступ случился в моем присутствии. Меня удивило хладнокровие Окунева: никаких действий для облегчения этого недуга не предпринималось. Я прочитала небольшую мораль о необходимости сочувствия ближним, сходила в Пушгоры за таблетками, чем до слез растрогала Любу. Одновременно с этим я потребовала, чтобы непременно была организована в ближайшее же время консультация у приехавшего на свою дачу московского доктора Анатолия Сергеевича Добронравова, так часто упоминаемого Окуневым в весьма лестных отзывах о необыкновенной простоте и широте его докторской души. Окунев вдруг засмущался и стал лепетать, что неудобно отвлекать уставшего человека от отдыха, но моя непреклонность, упоминание о клятве Гиппократа и о том, что дружба – понятие круглосуточное, заставило-таки его идти на поклон к Анатолю.
Повеселевшая, выздоровевшая после консультации и от внимания мужа Люба по восточной традиции решила отблагодарить Анатоля приготовлением плова. Публичное чревоугодие решили совместить с помывкой меня в профессорской бане, так как я вскорости уезжала, и чистой пятницы, традиционно отведенной для похода в пушгорскую баню, не дожидалась.
Анатоль был окружен кучей женщин в составе капризной жены, ее сестры и подруги жены, ярой коммунистки, пожирающей его влюбленными глазами. Идиллию дополнял пудель с парализованными задними лапами, которого постоянно надо было куда-то перемещать.
Я впервые увидела мужчину, который с годами не потерял мужского шарма и не превратился в неряшливого старика со слезящимися глазами. Лет ему было около семидесяти, но живой взгляд молодых глаз, неподдельный интерес к собеседнику, обаяние и необыкновенная простота в общении делали его центром внимания. Мы проговорили недолго. За это «недолго» я рассказала ему половину своей жизни. Я не помню, комментировал ли он как-то мой рассказ. Он просто слушал. А мне хотелось рассказать ему ВСЕ.
В книгах я читала о таких мужчинах. На мгновение защемила душа: спасибо судьбе за встречу, но почему она так мимолетна…
Долгое время мы через Окунева передавали друг другу приветы. «Оленька, Анатолю Вы понравились» – лаконично сказал он. «А я в него влюбилась» – ответила я. Теперь я, по крайней мере, знаю, что есть мужчины, до которых хочется одновременно и дотянуться, и прильнуть к плечу, и просто посидеть рядом на бревнышке деревенского дома в километре от усадьбы Александра Сергеевича.
В последний раз я была у Окунева уже живя в Москве. Приехали мы шумной компанией. С нами было два подростка-нигилиста, какими бывают все в подростковом возрасте. На обратном пути мамы удивлялись тому, как изменились они рядом с Пушкиным. Действительно, существует магия этого места.
Окунева уже нет на этом свете. Он похоронен там, где и хотел упокоиться – рядом с Александром Сергеевичем. От него остался дом, построенный им самим. И еще стихи, которые я собрала из всех его писем.
Юра. «Если бы у меня был такой лоб, я бы ни с кем не здоровался»
Рассказ о Юре надо начинать с Маши, моей любимой подруги, жившей в Риге. Познакомились мы с ней в год московской Олимпиады в подмосковном пансионате, где учились премудростям управления базами данных. Наше знакомство переросло в крепкую дружбу, длившуюся до ее нелепой смерти. Нам не мешали расстояния: мы встречались в год по несколько раз, а отпуска непременно проводили вместе. Маша достойна отдельной главы моего повествования, потому что при всей непохожести характеров мы были единым целым. Когда ее не стало, я как будто осиротела и почувствовала сквозняки в моем сердце: Маши нет рядом со мной. Прошло много лет, но ее место в моей душе даже не зарубцевалось, не то что заросло.
Наверно, похожее состояние было у Юры, ее брата.
Юра был на год старше нас, но, в отличие от нас, так и оставшихся институтками и хохотушками, не обремененными семейными заботами, был человек с положением: имел семью, состоявшую из жены и двух дочек, и погоны военного прокурора.
Ну, а мы, две любительницы танцев и только входивших в моду на Рижском взморье ночных клубов, так и норовили сбежать в подобное заведение. В эпоху повального дефицита билеты на эти мероприятия были тоже дефицитом. И кто же нам помогал проникнуть в эти злачные места? Конечно, Юрка со своими связями и бесконечными спецзаданиями по выслеживанию бесконечных маньяков.
Выглядело это примерно так: если сам Юрка был занят, он назначал кого-то из своих приятелей на ответственное задание по сопровождению нас в эти заведения. Заранее бронировался столик: конечно же, справа от эстрады в первом ряду. Конечно же, нас встречал и провожал до него метрдотель, которому давались инструкции по особому обслуживанию этих барышень. Бывало, что нас покидали верные стражники до назначенного часа, чтобы потом забрать и отвезти по указанному адресу домой. Но публика заведения, на глазах которой происходила передача из рук в руки этих особ, даже и не пыталась вступить с нами в какой-либо легкий контакт в виде приглашения на танец и безобидного флирта. Вот такую шутку по охране нашей нравственности играл с нами Юрка и на таком коротком поводке мы посещали все злачные места.
Иногда он приезжал в дом к родителям Маши: шумный, веселый, суетливый и очень обаятельный. Чмокнув нас в носы, непременно говорил: «Девчонки, не верьте тому, что говорит про меня Оксанка: это клевета!». Оксанка – это его меланхоличная жена, постоянно жалующаяся на его бесконечное отсутствие дома и появления после этого иногда слегка, иногда сильно, под «шафэ». Вот, собственно, и все обстоятельства, в которых я была с ним знакома.
А потом Маша умерла. Через несколько месяцев после ее смерти Юра вдруг позвонил мне и сказал, что приезжает в наш город по служебным делам. Конечно же, он остановился у нас, но не очень напрягал своим присутствием. Наверно, на самом деле были дела служебные или какие-либо еще.
Возвращался он поздно вечером, и у нас сложился ритуал: мы варили пельмени на кухне, запивали их каким-нибудь экзотичным вином и говорили про Машу.
Мы оба вспоминали ее, каждый по-своему, и вместе привыкали, что оставшуюся жизнь нам придется прожить без нее. Иногда мне казалось, что он приехал, обманывая себя, надеясь встретить здесь Машу. Он относился ко мне как брат: провожал на работу, несколько раз на дню звонил, предупреждая о вечерних планах, иногда выгуливал по вечерам. В общем, опекал…
Однажды он пришел особо поздно и особо под «шафэ». Выработав за много лет привычку оправдываться за свое поведение, он тут же начал бормотать о старом друге и их теплой встрече. Я его остановила словами: «Юра, ты ошибся адресом. Расслабься». Он на минуту замялся от необычной реакции и, наверно, в благодарность, поцеловал в лоб и сказал фразу, над которой я долго смеялась: «Если бы у меня был такой лоб, я бы ни с кем не здоровался». Наверно, это был комплимент…И я пошла на кухню варить дежурные пельмени, гордясь своим замечательным лбом.
Неделя пробежала быстро, и вот уже настал последний вечер. Мы сидели в нашем саду на скамейке и плакали: оттого, что нет Маши, оттого, что мы одиноки в этом мире, оттого, что приходится расставаться.
Через год я приехала в Ригу, чтобы побывать на могиле Маши. Пустынной показалась она мне. С Юрой мы встретились в кафе. Поговорили об общих знакомых, рассказали друг другу о себе. Мы не вспоминали о том вечере на скамейке в саду: зачем об этом говорить, ведь он всегда с нами!
Фантом Эдда. Это Москва, Оля!
Это было в прошлой жизни. Там была жива мама. Там был дом, сад, в саду по весне – фиалковая поляна и масса цветов, посаженных своими руками. Там в окно кухни заглядывала черешня, весной радуя буйным цветением, летом – обильными плодами, за обладание которыми приходилось соревноваться с воробьями. Там были орешины и хурма, выращенные из косточек и неожиданно начавшие плодоносить, как будто стараясь удержать нас на этом клочке земли. Там буйно цвели огромные кусты роз, из лепестков которых мама делала вино. Там в центре сада стояли качели, вокруг которых в долгие летние вечера собирались друзья и соседи и неспешно обсуждали общую самую острую проблему: куда, когда и как уезжать из этих мест, где прожито не одно десятилетие, родились и выросли дети, прошла молодость, состарились родители.
От этих тем у меня всегда начинало «сосать под ложечкой»: я понимала, что это от страха перед будущим и неизбежности этого будущего. Причем, всегда находились свежие примеры, на которые надо было ориентироваться: вот соседка отправляет контейнер и пришла прощаться, вот знакомые знакомых купили в России квартиру, вот N. удачно вышла замуж и пакует чемоданы…О знакомых, которые возвратились после безрезультатных поисков места под солнцем, говорилось вскользь: ну не повезло людям, но они же действовали!
Мучительные поиски вариантов начала новой жизни порождали только бессонные ночи. Да вроде бы и жизнь была не такая уж безысходная: была любимая работа, нечастые, но заграничные командировки…Еще пока не уехали все друзья, еще не отключили центральное телевидение и радио…
Но постепенно круг сужался, и, сжавшись до точки, моя память выстрелила: есть же Эд, он же был так любезен и доброжелателен!
Отступление
Эдом его назвала я, а настоящее его имя – Эдуард. Он был руководителем филиала крупной консалтинговой фирмы, приславшей нам рекламный материал о своей деятельности и пригласившей нас в гости для знакомства и потенциального сотрудничества. Мы долго зрели для поездки и все-таки созрели. В путь мы отправились с Жанной, креативной дамой, возглавлявшей нашу информационную службу. Наша поездка была приятна во всех отношениях: по дороге мы остановились в Москве, пообщались с друзьями, сбегали в любимый Пушкинский музей, едва не опоздав на поезд, и от холодной настороженности мы с Жанной перешли к дружескому взаимопониманию, и это нам обеим понравилось.
Эд и его команда встретили нас с искренним радушием и вниманием, показали нам такую организацию труда, технологии и отношений в коллективе, что нам показалось, что мы попали в город будущего из какой-то утопии.
Кроме того, наш контакт получился не только деловым: мы почувствовали на себе мужское внимание, которое так умело дозировалось, что каждая чувствовала себя королевой, милостиво позволявшей своей свите показывать свои достижения, посвященные, естественно, ей.
Конечно, тон поведения задавало первое лицо – Эд. Одна деталь особо умилила меня. Настало время обеда, и нас пригласили на кухню перекусить нехитрой едой: бутербродами и сосисками. Нас обслужила официантка, а Эд задержался в кабинете. Через некоторое время он пришел и оказалось, что его забыли посчитать: ни места за столом, ни вареных сосисок нет. Что же сделал он: ничуть не смущаясь, начал варить себе сосиски, резать хлеб и наливать чай. Вся жующая публика, да и он сам, восприняли это как должное. Мы с Жанной едва не поперхнулись, глядя на такую демократию: мы-то приехали из мусульманского государства, и позволять начальнику и мужчине обслуживать себя в присутствии дам нам показалось так трогательно и демократично.
В Москву мы возвращались вместе: Эд со своим сотрудником ехали в головной офис. Почти все время мы провели в ресторане, ведя задушевную беседу. И атмосфера была все та же: тихого взаимного восторга от общения друг с другом.
Мы тепло простились на вокзале, и каждый окунулся в свою повседневную жизнь. Потом были по праздникам дежурные открытки. Сотрудничества у нас не получилось, но симпатия от общения осталась надолго.

