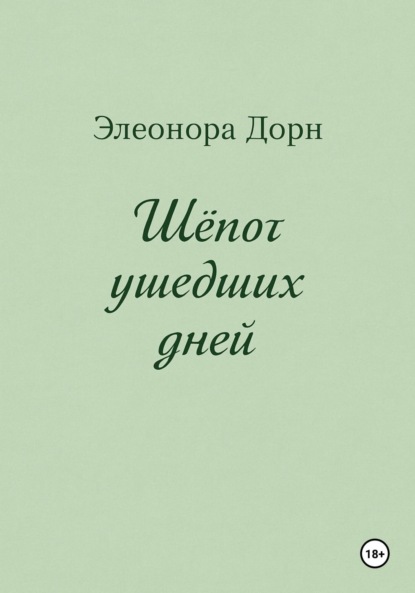
Полная версия:
Шепот ушедших дней
А под окнами нашей квартиры в Брюсселе будет расти всё то же вишневое дерево. Весной оно будет покрываться розовыми цветами, напоминая о расцвете природы и самой человеческой жизни. Летом оно будет шелестеть своей кроной, клониться к открытым окнам. Осенью его убор будет менять цвет, а зимой обнажённые ветви станут напоминанием о голландских пейзажах. На дерево будут смотреть другие глаза, и эти глаза будут радоваться ему, возможно, повторяя улыбки своих предшественников. И тогда оно станет символом памяти о человеческой жизни, которая угасла, как если бы это дерево было посажено рядом с могильной плитой, напоминая оставшимся о вечном круговороте жизни и природы.
Барсик
Павел Антокольский
Импровизация на тему
двух стихотворений
Шарля Бодлера “Кот”
и “Коты”
И кажется, что наши вещи -
Хозяйство личное его.
Его зрачков огонь зеленый
Моим сознаньем овладел.
Я отвернуться захотел,
Но замечаю удивленно,
Что сам вовнутрь себя глядел,
Что в пристальности глаз зеркальных,
Опаловых и вертикальных,
Читаю собственный удел.
В то утро у Александра Ивановича было хорошее настроение – все ждали Дусю. Раз в месяц она приходила убирать квартиру. В воздухе уже пахло весной и наступил момент вымыть загрязнившиеся за зиму окна. Потеряв свои зимние узоры, стекла были покрыты пылью, а щели заклеены белой бумагой – это надо было отдирать, а потом мыть. Мыла Дуся холодной водой – другой не было, а протирала старыми тряпками и газетой «Правда», которую получал наш сосед Александр Иванович. Клочья грязных газет валялись повсюду – весь этот беспорядок не смущал нас, а совсем наоборот – он предвещал приход весны. Приближалось время, когда журчащие ручьи, несущиеся вдоль тротуаров, уносили в небытие детские «секреты» – стеклышки, под которыми мы прятали блестящие бумажки с камешками и монетками – все это исчезало в лавине весенних вод. Ну а осенью снова приходилось выкапывать ямки и помещать в них все те же незатейливые детские богатства.
После того как одно единственное окно нашей комнаты было вымыто-солнце заиграло бликами на безупречно чистом стекле. Открылся привычный вид на тополь, растущий на противоположной стороне переулка, как раз там, где в двухэтажном деревянном домике и жила сама Дуся. Тополя, посаженные вдоль узенького переулка, были еще обнажены, но мы знали, что скоро они покроются зеленым убором, как и деревья в саду сказочного домика-избушки, принадлежавшего художнику Виктору Васнецову.
Окно комнаты, в которой жил Александр Иванович, как и окно нашей кухни, выходило во двор, похожий на каменный мешок. После ухода Дуси Александр Иванович вышел из своего десятиметрового заточения в чистой и хорошо отглаженной полосатой пижаме – так он обычно расхаживал по квартире, лишь иногда надевая свой старый, когда-то прекрасный бархатный халат. Когда дверь в комнату Александра Ивановича была приоткрыта, то можно было увидеть огромный сундук, стоявший в правом углу, служивший ему ложем – удобно устроившись на мягких подушках, он что-то читал. Когда лежачее положение ему надоедало, то он перемещался к мольберту, рядом с которым стоял маленький столик с расположенными на нем красками и кисточками – стояла и банка с какой-то жидкостью. Сидя перед мольбертом и прикрывая левой ладонью глаза, он пристально всматривался в очертания, появляющегося на холсте женского образа.
Знали мы об Александре Ивановиче не так много – лишь то, что был он живописцем и скульптором, что закончил Суриковский Институт. Жена Александра Ивановича – Татьяна Александровна, судя по всему, в молодости была красива, ибо до самой старости сохранила изящество черт лица и хрупкость фигуры. Она преподавала немецкий, зная при этом еще несколько иностранных языков – её занятием было чтение зарубежных романов, читала она их в подлиннике. Иногда к ней приходили ученики, в основном профессора. Да и сама она была дочерью профессора Московского Университета – Александра Васильевича Цингера. Именно ему когда-то принадлежала эта пятикомнатная квартира. У Татьяны Александровны и Александра Ивановичем детей не было, а был лишь черный кот, которого звали Барсик.
Кровать самой Татьяны Александровны стояла слева и была скрыта от наших глаз, – мы могли видеть лишь прекрасную репродукцию «Сикстинской Мадонны» Рафаэля, – она висела рядом с её кроватью. Эта Мадонна поражала моё юное воображение голубизной одеяния – именно голубой цвет придавал ей легкость и прозрачность. Позже я узнала, что "Сикстинская Мадонна" была полностью написана самим Рафаэлем, да и нарисовал он её за несколько лет до своей смерти. Особенностью именно этой Мадонны было то, что она смотрела прямо на зрителя, как будто устремляла к нему свой лучезарный взгляд. Недаром «Сикстинская Мадонна» Рафаэля произвела на Федора Михайловича Достоевского столь сильное впечатление, что он произнес свои, ставшие знаменитыми слова “Красота спасёт мир”. А под образом Мадонны, вдоль стены, стояли картины и самого Александра Ивановича. В основном это были обнаженные женщины, в голубовато-сиреневых тонах – выглядели они загадочно, да и не было в них завершенности, как будто живописец искал и никак не мог найти образ той, которую хотел изобразить на своей картине.
Александр Иванович в те годы был уже немолод – лицо его, испещренное глубокими морщинами и покрытое огромными бородавками, преображалось лишь в те минуты, когда он начинал что-то увлеченно рассказывать: мгновенно, серо-землистый цвет его кожи покрывался легким румянцем. Округлость его глаз напоминала зоркий взгляд орла, устремленный вдаль, – было впечатление, что облака, проплывавшие за окном, подсказывали ему какие-то мысли. Он обожал философствовать – элегантно держа в правой руке папиросу «Беломорканал», он стряхивал время от времени пепел – стряхивал он его в старую железную банку, стоявшую на уродливой газовой плите. За его спиной была раковина с заржавевшим краном, который вечно протекал; однако Александр Иванович не обращал на это никакого внимания – он стоял с хорошо выпрямленной спиной и гордо поднятой головой.
Раз в месяц, получив пенсию, он сбрасывал с себя домашний полосатый наряд и отправлялся в соседний гастроном, где покупал для себя четвертинку водки, а для своего любимого кота – какой-нибудь рыбки. Вернувшись домой, он принимался готовить угощение для своего питомца – вся квартира, тотчас наполнялась рыбьим духом, а ближе к вечеру, выпив свою четвертинку, Александр Иванович выходил в переднюю. Его немного пошатывало и он, спотыкаясь о ботики и галоши, вскрикивал время от времени – «Я вам покажу, где у черта хвост!». А моя тётя в сотый раз упрекала его в том, что художник он никакой – ибо ничего кроме как лиловых женщин рисовать не умеет. По всей вероятности, ей больше импонировали портреты Карла Брюллова или Валентина Серова. Да и кто тогда разбирался в авангарде, разве что сами художники…
А вот Александр Иванович в те времена был художником необычным и оригинальным. Возможно, что он был поклонником французских импрессионистов и подражал самому Анри Матиссу. Ведь портрет «Мадам Матисс» так же когда-то не понравился его современникам – они сочли его уродливым, ибо написан он был в ярких и необычных тонах. Не мог Александр Иванович не почувствовать на себе и влияния самого Льва Бруни – они вместе, в тридцатые годы двадцатого века, делали фреску «Китайские партизаны» для павильона Всесоюзной сельскохозяйственной выставки. Несмотря на то, что главным автором и исполнителем фрески был сам Лев Бруни, но и Александр Иванович Сахнов помогал ему в той работе – оба были выпускниками ВХУТЕМАС а. А если вспомнить портрет Анны Ахматовой, кисти художника-авангардиста Натана Альтмана, то и в нём превалирует ярко-синий цвет, не говоря о портрете Бальмонта, выполненного самим Львом Бруни, – он так и назывался «Голубым портретом». Яркие краски в картине Николая Рериха «Голубые горы» также придавали этим горам характер мистический, не говоря о том, что образ самих гор дает ощущение величия Мироздания, частью которого является и сам человек.
Рисуя свои розово-голубые портреты, Александр Иванович, возможно, вспоминал о своей молодости и юной Татьяне Александровне, тщетно пытаясь воспроизвести образ той, которая некогда поразила его пылкое воображение. Отныне, в тесноте коммунальной квартиры, они делили малюсенькую комнатку с одной кроватью и огромным сундуком, напоминавшую им о том, что миг восторга не вечен и что убогий быт способен охладить самые сильные страсти. Однако образ молодой жены, как и чувство к ней, когда-то испытанное, жили в нем, заставляя до бесконечности воспроизводить на холсте облик той, которая когда-то волновала его душу. Это была та ниточка, которая связывала его с жизнью.
Был в их комнате еще один жилец – огромный сибирский кот по прозвищу Барсик. Когда хозяин Барсика садился за мольберт, кот тотчас же занимал его место; лениво распластавшись на огромным сундуке, большеглазый и задумчивый, он смотрел на хозяина своими зелено-синими глазами. Куда был устремлен взгляд Барсика, понять было трудно – то ли на согнутую под тяжестью прожитых лет спину своего хозяина, то ли на его руку, держащую кисть. А художник, хотя и не видел своего питомца, но чувствовал всей своей спиной его присутствие; кот, как и его жена, был тем, что помогало ему поддерживать интерес к жизни. Со стены смотрела великолепная Мадонна Рафаэля, а с мольберта молодая женщина в сиренево-голубых тонах напоминала художнику об ушедшей молодости…
В тот самый день, когда случилась трагедия, Александр Иванович был в таком отчаянии, что выплеснул из стакана остатки голубой жидкости – капли голубой воды попали на портрет – по щекам сиренево-лиловой женщины потекли голубые слезы. Кого она оплакивала? Кота? Или то, что не дано художнику создать из образов ночных наваждений образ той самой, которую он когда-то любил?
А Барсик, устроившись у вымытого окна, мог теперь любоваться тем, что происходило по ту сторону оконной рамы. А там, за окном, в лучах весеннего солнца, дружно летали воробьи в поисках места для своего будущего потомства. Жизнерадостный черный кот прыгнул за своей добычей в пустоту, упав на асфальт мрачного двора, – падение с четвертого этажа оказалось для него смертельным. Любящие руки хозяина пытались передать еле дышащему существу собственное дыхание жизни, но ничто не помогало, и так радостно начавшийся весенний день принес трагедию в жизнь Александра Ивановича. Он обнимал этот черный бархатный клубок, целовал его глаза и что-то шептал; мягкий пух его седых волос дрожал от дуновения легкого ветерка, проникавшего в комнату через открытую форточку. Он беззвучно рыдал…
И уже через пару дней, стоя на той же кухне и устремив взор куда-то вдаль, он был рассеян, говорил непонятно, отрывисто. Было впечатление, что он что-то там видит, ибо лицо его неожиданно преображалось – оно становилось спокойным, морщины разглаживались, а на глаза робко накатывались слезы. Возможно, что там, в облаках, уже весенних и розовых, он видел чеширскую улыбку своего любимого Барсика, манящего к себе. Александр Иванович начал все чаще покупать четвертинку, а вскоре мы узнали, что он попал в больницу, из которой ему не суждено было выйти…
Ода любимой собаке
Дай, Джим, на счастье лапу мне,
Такую лапу не видал я сроду…
Первое сентября – день особый, вернее, он стал особым в тот самый момент, когда в мою жизнь вошла маленькая собачка, щенок, превратившийся позже в большого роскошного пса с рыже-белой гривой. История эта имела и свою предысторию. Когда-то, будучи совсем маленькой, моя дочь Машенька настояла на том, чтобы я подписала бумажку (в прямом смысле этого слова), что когда ей исполнится 14 лет, то я куплю ей собаку. Время шло и маленькая девочка подросла, а в 14 лет она мне и предъявила ту самую бумажку, мною когда-то подписанную. Но собаку купила ей не я, а её папа – великий шутник. Лично я настаивала на том, чтобы собака была хотя бы небольшой, ибо для большой в нашей квартире не было места. И вот, в один прекрасный день у нас появился маленький щеночек, рыженький и пушистый. О том, что щенок со временем превратится в большую собаку, я узнала лишь на консультации ветеринара, когда в комнате ожидания увидела семимесячного щенка породы колли – собачка была довольно крупной.
В итоге, маленький пушистый щеночек в один прекрасный день превратился в роскошного пса. Да и не мог он не быть прекрасным, ибо в его собачьей метрике было записано, что он потомок двух чемпионов Международных выставок —Лукки-Рислея и Аэлиты-Елли. Как видно, он унаследовал от своих предков все самое лучшее. Ну, а что касается собачьих имен или кличек, то существуют особые правила, устанавливаемые самим Клубом. В тот год – 1985, все клички должны были начинаться с первой буквы алфавита, вот мы и выбрали для нашего колли имя Арсель. Однако это имя фигурировало лишь в его официальных документах, а в кругу семьи было решено назвать его Джоем (JOY), именем не только красивым, но и радостным. У нас дома он появился лишь в октябре. Я прекрасно помню, что октябрь 1985 года был солнечным и теплым. Когда я выносила щенка на улицу, то соседи начинали умиляться маленькой рыженькой собачке.
Прожил Джой длинную собачью жизнь —около 14 лет, а возраст этот для собаки весьма почтенный. Если сравнивать продолжительность жизни собаки и человека, то согласно таблице, размещенной в Международном ветеринарном паспорте, 14 лет собачьей жизни приравнивается к 72 годам жизни человеческой. На одной из своих лекций известный московский профессор – Александр Моисеевич Вейн говорил, что человек, проживший больше семидесяти лет – это долгожитель.. Так что и Джой, с собачьей точки зрения также был долгожителем.
Так как Джой родился первого сентября, то забыть такую дату просто невозможно. Для всех нас, живших в ту эпоху, день первого сентября был праздничным, а следовательно и радостным. В начале сентября, как правило, стояла солнечная и теплая погода, а кроме того, именно в этот день все советские дети шли в школу. Это были аккуратно причесанные дети: на девочках были белые фартучки, в волосах шелковые белые ленты, а на мальчиках аккуратные синие курточки. В руках у каждого школьника были цветы – дар любимой учительнице. Светило солнце, небо было безоблачным, а на дорожки и газоны тихо падали осенние листья, покрывая их солнечно-золотым ковром. Именно в такой радостный день и родился Джой.
С тех пор утекло много воды: Джоя уже давно нет, не говоря о том, что и я сама уже давно превратилась в пенсионерку. И тем не менее, каждый год я отмечаю день его рождения: то свечку зажгу, то напишу что-то, ведь именно Джой привнёс в мою жизнь ощущение покоя и гармонии; более того, с тех пор это ощущение никогда не покидало меня. Не забыла я и тот счастливый день, когда он смог покинуть страну, в которой родился. Джой был собакой породистой, имел удостоверение Центрального Клуба Служебного Собаководства России. Все ведь знают, что все служебные собаки в СССР считались военнообязанными, впрочем, как и я. У меня самой был военный билет переводчика, так как в Институте иностранных языков была военная кафедра. Так что в ситуации военного положения, мы с Джоем могли быть мобилизованы. К счастью, то далекое время было мирным, а Клуб интересовался лишь тем, можно ли потребовать с хозяйки служебной породистой собаки денежную компенсацию. Любая породистая собака, при вывозе за границу, подлежала оценке в рублях. К счастью, Джой был уже немолод, что и было записано в сопроводительной справке: «собака – породы колли (шотландской овчарки), бело-рыжего окраса, племенной ценности не представляет, в связи с возрастом». В Клубе я объяснила, что Джой едет со мной в Бельгию в качестве туриста, но на самом деле возвращаться на родину я не собиралась, а уж тем более везти назад пожилую собаку. У меня были совсем другие планы. Было, как видно, суждено Джою умереть вдали от родины и быть развеянным среди роз в самом красивом парке Брюсселя – Парке пятидесятилетия.
А когда Джой был еще молод, в самом начале своей жизни, он завоевал первое место на Конкурсе собачьей красоты, – организатором которого был все тот же Центральный Клуб Служебного Собаководства России. Ему был выдан документ, перечисляющий все его достоинства; не забыли упомянуть и его знаменитых предков – как мама, так и папа имели награды за свою стать и красоту. Получил он в подарок и статуэтку собаки черного цвета, которую храню по сей день.
Итак, получив Справку с разрешением на выезд, я заказала билеты на поезд. Увы, в те времена иного выбора для меня не было; ведь не помещать же любимую собаку в салон для багажа!!!. А вот в наши дни, хотя и не повсюду, с собакой и в салоне можно путешествовать, однако лишь в том случае, если вес самой собаки не превышает веса ручной клади. Это как если бы вы везли с собой небольшой чемодан весом 8-10 килограмм. Совсем недавно, я увидела на странице собачников в фейсбуке фото американского туриста, путешествующего со своей собакой колли, сидящей в рюкзаке у него за спиной. Вид был трогательный, – собака доверчиво сидела в рюкзаке, положив на плечи хозяина свои лапы. Фото произвело на меня столь сильное впечатление, что я и решила написать о нашем с Джоем путешествии по маршруту Москва – Брюссель.
Думаю, что многие помнят, что в Москве, в те годы, процветала преступность. Именно тогда появилась особая категория людей, которых называли «челночниками», – они циркулировали между Польшей и Москвой: в Польше они отоваривались барахлом и везли его на продажу в столицу. В ту пору я уже жила в Бельгии, но решила поехать в Москву, чтобы повидать маму и забрать Джоя в Брюссель, где уже жила. Шел 1994 год. Поехала я туда поездом, прекрасно понимая, что именно поездом я смогу привезти Джоя.. Сев в поезд, идущий из Брюсселя в Москву, я оказалась в купе с очень симпатичным французским студентом – почитателем русской культуры. Ехал он не в Москву, а куда-то на Дальний восток, с пересадкой в Москве. В купе мы оказались вдвоем, и нам и в голову не приходило, что кто-то может нарушить наш покой. Однако в Варшаве, к нам посадили двоих мужчин. Когда они вошли в купе со своими огромными клетчатыми сумками, то мой сосед напрягся; по всей вероятности, он испытал то, что позже испытала я, когда решила продать мамину комнату через коммерческое Агентство. Хорошо помню, что когда директор некого Агентства недвижимости в Москве открыл мне дверь, то я прямо-таки отпрянула – он был похож на уголовника, вернее, он им и был…
В отличие от меня, мой молодой сосед по купе, растерянно смотрел на вновь прибывших. Как видно, для студента, изучающего русскую культуру в одном из европейских Университетов, эта культура ассоциировалась совсем с другими лицами. Что касается меня, то вид новых попутчиков меня скорее напугал, и от чувства страха я никак не могла отделаться, вплоть до того момента, когда поезд прибыл на Белорусский вокзал. И это несмотря на то, что я сама жила в Москве в те самые годы, которые принято называть теперь «лихими девяностыми», хотя с такими людьми сталкиваться не доводилось. .
И вот, вернувшись на родину в 1994 году, чтобы забрать собаку, и мне пришлось столкнуться с этой категорией людей; было это связано с тем, что я решила перевезти маму в свою отдельную квартиру, а её комнату продать.. В те годы, в Москве существовало огромное количество Агентств по продаже и покупке недвижимости. Ведь как квартиры, так и комнаты были приватизированы, а следовательно ты мог как продать, так и купить если не квартиру, то комнату. И на комнаты был огромный спрос. Среди потенциальных покупателей кого я только не видела: был и молодой мужчина, представившийся милиционером, хотя на милиционера мало был похож. А ведь в те годы форму можно было и на рынке купить. Приезжали смотреть комнату и пьяницы, вернее их привозили агенты. А когда, однажды, я сама отправилась в Агентство, недалеко от Донского монастыря, то дверь мне открыл прямо-таки бандит. Вот с мужчинами, похожими на преступников мы с французским студентом и оказалась в одном купе.
Мамину комнату, в итоге, продать удалось; поспособствовала дама интеллигентного вида, даже помню, как её звали – Алла Николаевна. Так вот эта Алла Николаевна принесла мне деньги в авоське, были они завернуты в газету, а встретились мы с ней в метро, недалёко от моего дома. Когда я принесла авоську домой, то увидела, что денег не доставало. И это несмотря на то, что все что я должна была ей заплатить, я уже ей заплатила. На этом мои неприятности не закончились, – часть полученных денег я положила в Банк, – где-то недалеко от Пушкинской площади. Уезжая со спокойной душой, я полагала, что мама обеспечена, да и живет теперь в отдельной кооперативной квартире. Не тут-то было – банк быстро обанкротился, хотя это не был тот самый знаменитый банк «Чара». Узнала я обо всем этом, когда мы с Джоем уже были в Брюсселе.
Приехав на вокзал, Джой залился звонким прощальным лаем, после чего нас поместили в купе международного поезда. В поезде почти никого не было. Воспользовавшись этим, я предложила проводнику пятьдесят долларов, с просьбой никого не подселять к нам в купе. Устроившись около окна на розовой простыне, Джой поглядывал на пробегающие за окном пейзажи; когда же это занятие ему надоедало, он перемещался поближе ко мне, ложась на коврик. Все было спокойно вплоть до Бреста, где мы смогли с ним погулять. Единственно неприятным воспоминанием было то, что какие – то бандиты, ехавшие все в ту же Польшу, предложили мне продать собаку «на шапку».. Можно сказать, что это было прощание с бандитской родиной.
Покинув Белоруссию, поезд пересек границу с Польшей, направляясь к Варшаве. Не успел поезд тронуться, как проводник предстал перед нами, сообщив, что рассчитывать на него не стоит, ибо после Варшавы открывать свое купе он не будет. Нам же посоветовал закрыть хорошенько купе – во избежание неприятностей, а сам, закрывшись в собственном, появился лишь после пересечения границы с Германией. Отнесясь всерьёз к рекомендациям проводника, мне самой пришлось воздвигать баррикады, – это были чемоданы, сумки и металлическая лесенка. Судя по словам самого проводника, у бандитов имелись ключи для проникновения в любое купе. Ночью, открыв купе, они брызгали какой-то жидкостью и забирали все, что могли унести. Естественно, что у нас с Джоем были и деньги, и подарки. Кроме того, вагон был полупуст, – кричи-не кричи, никто не услышит. Состояние у меня было крайне нервозным. Уже позже, я узнала, что все эти грабежи происходили на определенном отрезке – от Варшавы до последней польской станции – Щецин. Это было довольно большое расстояние. Хорошо помню, как в какой-то момент в окно видна была лишь тьма, пейзаж напоминал степь, да и время было уже позднее, – где-то около одиннадцати вечера. После того, как поезд отъехал от Варшавы, вагон неожиданно опустел – все спрятались в своих купе. Вероятно, что все были предупреждены все тем же проводником. Когда за окном можно было увидеть лишь черноту без единого огонька, я услышала, как в вагон кто-то вошел. Кто-то говорил очень тихо. В этот момент я услышала стук в дверь купе и поворот вставленного ключа. Тотчас же Джой начал громко лаять. Бандиты – храбрецы, как видно, испугались собаки, поэтому, услышав лай, отошли от нашего купе. Я даже услышала, что кто-то сказал: «да здесь собака». Получилось, что Джой нас спас и все потому что очень любил лаять. Недаром многие психологи говорят, что любой недостаток имеет свою оборотную сторону.
В тот самый момент, когда поезд подъезжал к Германии, я лила слезы радости.…Таможенник, вошедший в купе для проверки документов, превратился для меня в символ свободы и безопасности. Увидев его, я вздохнула с облегчением, – чудовищный мир с бандитами остался позади. Впереди нас ждали зеленые лужайки, приветливые лица и благоустроенная жизнь.
Оказавшись на "закатывающемся" западе, сам Джой "закатываться" не намеревался, совсем наоборот – он помолодел, похорошел и оброс густой блестящей шерстью. Это была вторая молодость, хотя и собачья.Прожил он еще около пяти счастливых лет: куда мы с ним только не ездили – и в Брюгге, и в Бретань, и в Антверпен, не говоря о маленьких провинциальных городках. Да и гуляли мы с ним в известном в Брюсселе Парке Пятидесятилетия (фр. Parc du Cinquantenaire). Парк этот был разбит в 1880 году, когда Бельгия праздновала пятидесятилетие своей независимости. Пожелав отпраздновать столь знаменательную дату с помпой, бельгийский Король – Леопольд II, решил организовать в Брюсселе Всемирную выставку. Для этого он выбрали загородной местечко, служившее военным полигоном. Полигон был снесен и превратился в красивейший Парк, с импозантными сооружениями. Парк был знаменит также и тем, что именно в этом парке было разрешено прогуливать собак без поводка; об этом свидетельствует скульптура собаки, установленная у главного входа в Парк. Помню те времена, когда собачники, собиравшиеся небольшими группами у какой-нибудь лужайки-газона, отпускали с поводков своих питомцев, – здесь были и бельгийские овчарки, и пудели, и сеттеры, не говоря об очаровательных дворняжках. Эдакий собачий клуб, вполне демократичный.. Именно в этом Парке Джой и бегал, заливаясь своим неподражаемым лаем.

