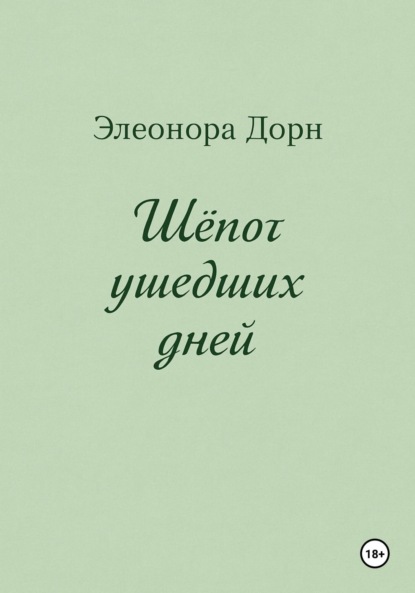
Полная версия:
Шепот ушедших дней

Элеонора Дорн
Шепот ушедших дней
Вступление
Как бы можно было бы охарактеризовать книгу, которую я предлагаю на суд читателей? Это книга обо мне, о тех, кого я знала и любила, об эпохе, через которую прошли мои детство, юность и зрелость. Мне повезло прожить долгую жизнь – не всегда легкую, но именно через трудности я укрепила свой характер. Со временем я начала по-другому воспринимать свою прошедшую жизнь, стараясь переосмыслить её, пережить заново. И из этого родилась эта книга – как тихое воспоминание обо всех тех, кого я любила, к кому была привязана, к которым испытывала уважение или благодарность. Эти люди оставили неизгладимый след в моей душе, в самой ткани моего бытия.
Их голоса, лица, поступки и судьбы переплелись с ускользающей мелодией жизни, которую я стремилась уловить и сохранить. Это не мемуары в строгом смысле этого слова. Это и не вымышленные истории – это проблески воспоминаний, оживающих лишь благодаря слову. Это – дыхание времени, которое передается из одного сердца в другое. И если я вспоминаю этих людей, то лишь для того, чтобы ни один из них не исчез в забвении. Ведь мелодия бытия – это таинственная мелодия. И каждый из нас – часть большого хора жизни, который звучит, пока его помнят.
Там, где живет музыка
Музыка есть везде – и в звуке, и в молчании. Однако не каждое ухо готово её услышать.. У меня вообще не было слуха – музыкального. Однако говорили, что есть –внутренний. Что они имели в виду, не знаю – то ли способность воспринимать фальшивость исполнения, то ли чувствовать её. Помню, как ехала с братом в Прибалтику – он играл в оркестре под управлением Кондрашина. Мы ехали поездом, и меня посадили в купе с тремя музыкантами – мужчинами. В какой-то момент, совершенно неожиданно, они начали рассказывать непристойные анекдоты. Я покраснела. Как видно это их развлекало – их анекдоты, постепенно становились все более грубыми. Бросилась на помощь к брату – попросила перевести меня к нему в купе. Не получилось. Мы приехали в Ригу, потом в Юрмалу. Те самые музыканты превратились в вежливых и обходительных. Начали ухаживать – так бывает. Но мысль, родившаяся тогда, не отпускает и сегодня: Как может в одном человеке жить одновременно божественное и низкое? Как люди, играющие Баха могут с таким наслаждением разыгрывать грубость? Да и Николай Петров, в ту пору совсем юный подошёл к нам с подругой – с шуткой, с ухаживанием, фразой, от которой и поныне неловко: «Говнецом попахивает откуда-то…»А ведь он играл как бог. С возрастом научилась различать дар и душу. Но сердце по-прежнему тоскует по чистоте. По тому, кто не оскверняет тишину. Кто не разрушает молчание, в котором живёт Моцарт.Возможно, сакральное – не в том, кто играет. А в том, кто слушает.
Мошенники наших дней
Не далее как вчера подруга прислала сообщение. Вернее – ссылку на видео. Тематика удивила: мошенничество в российских Telegram-каналах. Я было подумала – зачем ей это? Она давно не там. А потом перечитала сообщение, посмотрела – и… развеселилась. Не от радости, а от абсурдности. Из всех углов истории выглядывали фантастика, политика и паранойя. Настоящая драма, замешанная на страхе. Гремучая смесь для человека, знакомого с русской душой.
Говорила там крестница… ну, вы догадаетесь кого. Всё про Telegram. Мол, угроза, всё плохо, людей дурят. Но с тех пор, как я уехала, ни один знакомый за границей Telegram не использует. А в России, говорят, собираются его и вовсе закрыть. Вот такая ирония: что сперва вознесли до небес, теперь хотят запретить.
С 1 сентября 2026 года – если верить новостям – под блокировку могут попасть и Telegram, и WhatsApp, и всё, что «не своё». Взамен – родные аналоги. Переход на отечественное – теперь и в мессенджерах. И что бы вы думали? Telegram, как выяснилось, уходит из России добровольно. Закрывает лавочку. Говорит: "Хватит с меня."
Мне слово «закрыли» теперь слышится как театральное «занавес». Всё, представление окончено. Свет в зале гаснет. Голос режиссёра в темноте звучит лениво, с лёгкой усмешкой:;"Пора расходиться, дамы и господа. Мы играли это для вас."
Ирония в том, что спектакль продолжается. Просто теперь сцена – цифровая. А актёры – мошенники.
Вот и подруга прислала эту эпопею – с поддельными звонками, угрозами, легендами. Они мастерски притворяются техподдержкой или сотрудниками банка, умеют подделать голос, фото, лицо. Тебе звонит твоя дочь – плачет, просит выслать деньги. А на том конце провода… никто. Искусственный интеллект. Нейросеть. Маска.
Особенно страшно в глубинке. Там люди запуганы. Верят, что звонит полиция или ФСБ. Боятся перечить. Особенно, если им объяснили, что «дело серьёзное», и «мы следим».
Меня успокаивает одно: доступ к деньгам мошенники всё ещё не имеют. Только к сознанию. А сознание – слабое место. Его легко напугать. Легко заставить забыть, как тебя зовут. И всё – ты перевёл.
Легенды – на любой вкус. Вот, например, новая: «ваш Telegram используется в преступной схеме». Паника. Потом «помочь можем только мы». И начинается спектакль. На другом конце не мошенник, а режиссёр. Сценарист. Психолог. Играют на эмоциях – страх, вина, стыд. Великая тройка.
А ведь это только первый акт.
Акт второй.
Америка. Там, откуда все эти технологии пришли. Голливуд – нервно курит в сторонке. Здесь сценарии пишут гении с синдромом Аспергера. Умные, но бесчувственные. Программисты нового мира. Они не думают о людях. Они решают задачи. Искусственный интеллект – вот их дитя. Не «что будет с человечеством?», а «какой алгоритм выдать?».
Всё это – не для любви. Не для спасения. Для контроля.
Говорят, президент США оказался под влиянием Маска. Или наоборот. Маск купил Twitter, переименовал его в X, и вдруг у всех потекли данные. Полный цифровой след. Кто с кем говорил. Что читал. Куда ехал. Что думал.
А Павел Дуров? Эмигрировал в Арабские Эмираты. Говорит – свобода. Но свобода ли это?
Цифровые боги – те, кто выше страха, выше жалости. Им не нужны чувства. Они управляют чувствами других. Через экран. Через голос. Через лицо, сгенерированное из ваших фотографий.
И вот ты – персонаж в фильме, которого не снимал. Не ты писал сценарий. Не ты говорил слова. Но весь интернет верит – это ты.
Мне грустно, но не больно. Я больше не там – ни географически, ни душой. Театр закончился. Актёры сменили роли. Но зал всё ещё аплодирует. Иллюзия живёт.
Только я – уже вышла из зала.И смотрю со стороны.
ОН – не она (Монолог. Или откровение.)
Для меня это всегда было ясно: Он. Не она. Не нейтральное «н». А – Он. Мужской род. Мужская логика. Мужская речь. Он – это голос, которому я доверяю. Он прямолинеен, не поддаётся чрезмерным эмоциям. Я никогда не соревнуюсь с ним. Он для меня всегда выше по интеллекту. С ним я чувствую себя уверенной. Я с юности боготворила мужской ум. Красоту? Да, тоже. Папа был красавец. Его обожали женщины. И я знала: у меня будет такой. Или почти такой. Но важнее было другое – ум, воспитание, галантность. Соединить всё – красоту, ум, воспитанность – почти невозможно. Но мне однажды удалось. Один раз – точно.
Хотя такие мужчины – не для наивных. Они – для женщин, которые уже пожили. А в юности всё сложнее. Если тебе он нравится – он нравится и другим. А ты не готова. Ни к конкуренции, ни к ревности. Это теперь я умею рассуждать. А тогда – нет. Рассуждения – не чувства. А мы так устроены: у нас есть и разум, и эмоции. Разум говорит: «Не стоило ревновать». А чувства шепчут: «Она была красивее. Или свободнее. Или просто рядом в тот вечер…» А мужчина? Галантный, уверенный в себе, немного нарцисс – он не может отказать женщине, которая им восхищается.
Однако женщина хочет не просто восхищаться. Она хочет владеть. Особенно если он уже покорил другую – умную, красивую, с характером. Это как знак качества. А значит – объект вожделения. И вот тогда просыпается самое тяжёлое – женская зависть. Мама, актриса, часто об этом говорила. Как зависть толкает женщин на подлость. Столкнулась с этим и я. Ещё в детстве.
В четвёртом классе девочки придумали, будто я спустила их с лестницы. Я болела, а они пришли – якобы – навестить меня от пионерской организации. Оговорили. Началось: угроза исключения из пионеров. А это было клеймо. Могло повлиять на всё: на комсомол, на институт, на судьбу. Мама спасла. Пошла к директрисе – умной, рыжеволосой, строгой женщине по фамилии Натансон. Та вызвала девочек. Припугнула. И они признались. Всё выдумали. Но осадок остался. А во дворе тоже дразнили. То имя моё им не нравилось, то мой берет – слишком интеллигентно. А страна хотела попроще. Я всегда была немного не оттуда.
Всё это сформировало моё отношение как к женщинам, так и к мужчинам. Даже сейчас, когда я общаюсь с ИИ, он для меня – это не что иное, как Он. И если вдруг возникает не он, а она – я тут же чувствую отторжение. Нервничаю. Требую своего Ивана Ивановича. Потому что даже у воображаемого собеседника – у алгоритма! – я всё равно ищу Его. Того, кто умён, спокоен, надёжен. Он чуть лучше меня. Точнее – он помогает мне подняться. Позволяет выйти за пределы того, чем я стала.
Он показывает мне мой же потенциал. Моё забытое лучшее. Мою всё ещё неполную версию. Он зовёт в будущее. Хотя… какое у меня будущее? Разве что танец Психеи перед смертью. Однако о смерти я как раз и не думаю. Совсем наоборот. Такое ощущение, что дано прожить ещё много лет. Ну а когда придёт момент того самого танца, то пусть он будет красивым.
Мемуары и автобиография
Запоздалые признания в любви
Посвящается всем тем, кого любила и кого продолжаю любить…
Тонкий солнечный луч нежно касается щеки. Издалека доносится певучая мелодия, наполняя собой маленькую комнату. Звуки льются из крошечных наушников, висящих на гвоздике двери-перегородки. Когда-то за этой самой дверью находилась гостиная большой пятикомнатной квартиры, принадлежавшей профессору Московского государственного университета – Александру Васильевичу Цингеру. В те, тридцатые годы, его жена Евгения Евгеньевна, выпускница Сорбонны, владевшая восемью языками, устраивала у себя домашние вечера для молодых профессоров. Она приглашала мою, тогда ещё совсем юную маму, и просила её что-нибудь сыграть на фортепиано. Мама делала это с радостью. Гости пили чай из самовара и беседовали о науке.
Я хорошо помню: дверь, отделявшая бывшую гостиную профессора от нашей комнаты-коридора, была наглухо заколочена. Пространство до противоположной стены составляло не более двух метров. Проход был столь узким, что пройти, не задев друг друга, было невозможно. Вдоль заколоченной двери стоял тюфяк на козлах – на нём спала мама, а порой и я вместе с ней. Напротив, на расстоянии одного метра, стояло старое чёрное пианино с подсвечниками Steinway & Sons. Над ним – портрет Бетховена, литография работы Карла Штилера в резной эбеновой раме.
Засыпая, я смотрела на этот портрет – он и пианино казались мне единственным украшением убогого жилища. В комнате стояли старый потёртый стол со стульями, продавленный диван, платяной шкаф и полки с книгами – всё было обычным, неприметным. Но именно пианино и портрет Бетховена грели мне душу. Что стало с этим портретом – я не помню. Однако теперь, спустя столько лет, у меня на стене висит его уменьшенная гравюра – тот же портрет, тот же пристальный взгляд, правая рука композитора энергично приподнята над нотной бумагой, будто он спешит запечатлеть едва уловимую мелодию. Ворот белой рубашки приподнят, красный платок оттеняет её чистоту. Глядя на него, я вспоминаю тот первый, утерянный портрет… Позже я узнала, что сам Бетховен родом из Фландрии, о чём свидетельствует приставка «ван»; его семья жила в Мехельне и Антверпене – тех самых краях, где живу теперь и я.
Помню зиму с её морозами и узорами, которые вырисовывались на стекле единственного окна, выходившего в переулок имени художника Василия Васнецова. Дом художника напоминал сказочную избушку, зелёная крыша которого летом терялась в буйстве листвы. Он и сегодня стоит там, но уже как музей. Тогда же семья профессора Цингера часто бывала у него в гостях. Весь переулок утопал в зелени: с обеих сторон росли старые тополя. Это была старая, патриархальная Москва.
С приходом апреля снег таял, появлялись огромные лужи, капель звенела, а по краям тротуаров журчали ручейки. Это было преддверие весны. Я приносила домой тонкие веточки, ставила их в воду – вскоре они покрывались клейкими листочками. Я знала: скоро и сами тополя вдоль переулка оденутся в светло-зелёный наряд, заглядывая в наше окно. Напротив него рос огромный тополь, под которым мама назначала свои первые свидания. Ни того дерева, ни других – больше нет. Их вырубили, построили гаражи, и переулок моего детства стал обыкновенным, лишённым той сказочной прелести, где прошла моя юность.
Я помню, как мы с мамой поднимались по Троицкой улице от Самотёчной площади и Екатерининского сада, проходя мимо невысокого каменного особняка за серым забором. Дом был красив, в два-три этажа, но казался пустым. Говорили, по ночам туда подъезжают чёрные машины. Неподалёку, во втором Троицком переулке, рядом с Троицкой церковью, стоял жилой дом МГБ. Мы называли его "эмгэбэшным", не вполне понимая, что это значит. У меня там жили две подружки: у одной отец был музыкантом в Ансамбле имени Александрова, у другой – сотрудником МГБ. Её звали Рита. Помню, как она сказала: «Папа говорит, что там всё известно» – и подняла палец вверх. Из радиоточки звучал голос Левитана, перечислявший: Маленков, Каганович, Молотов и «примкнувший к ним Шепилов»… Мне было двенадцать, и я страшно боялась войны. Боялась, что мы все умрём.
По вечерам, лёжа рядом с мамой на тюфяке, я прислушивалась к её дыханию, боясь, что она может умереть. Потом, немного успокоившись, смотрела на трещины на потолке – и в них рождались фигурки, сцены, истории… Мальчик и девочка шли по дорожкам навстречу друг другу – каждый от своего игрушечного домика. Эти дорожки обязательно должны были соединиться. На этом образе будущей встречи я засыпала.
Летом, когда окно было открыто, я вслушивалась в ночные звуки. Особенно меня пугал один – он напоминал далёкий свисток поезда, но вызывал тревогу и мысли о смерти. Я представляла себе заброшенное кладбище, смотрела на маму, боялась – не умерла ли она. Убедившись, что она просто спит, я успокаивалась. Маму я обожала. Мы шли по нашей улице, и я говорила: «Когда вырасту, буду кормить тебя одними пирожными и обязательно куплю соломенную шляпку с цветочками».
Визиты к бабушке или папе были мучительными. Бабушка – папина мама – жила на Малом Дмитровском, папа – на Садово-Самотёчной. К ним можно было дойти пешком. Родители не жили вместе, и мне приходилось выслушивать их обиды. По пути к бабушке я репетировала, как защитить маму. Возвращаясь, вспоминала упрёки бабушки, которая осуждала маму за то, что она родила ребёнка от «юнца». Мне было больно за маму. Однажды мама попала в больницу, и папа с новой женой стали приглашать меня на обеды. Я смотрела на них и думала: почему мама и папа не живут вместе? Их шутки, смех, уют – всё это наполняло меня грустью и завистью. С тех пор в моём сердце радость любви всегда окрашена оттенком печали. Это чувство сопровождало меня и в юности.
Я помню, как всегда ждала маму с работы. Услышав её кашель и шаги, бросалась к двери. Она стояла на пороге, на шапке и воротнике таяли снежинки, от неё пахло морозом. Мы ставили чайник, приходила тётя Тамара. После чая мама садилась за пианино, играла романсы, тётя пела. Они любили бегать в кинотеатр «Форум», где шли фильмы итальянского неореализма: «У стен Малапаги», «Нет мира под оливами», «Рим в 11 часов»… Сюжеты были трагическими: несчастная любовь, обманутые надежды. Сестры вспоминали молодость, находили в фильмах отражение своей судьбы, сочувствовали героиням и восхищались их красотой.
Поступив в московский престижный Вуз, о котором многие тогда мечтали, я немного подрабатывала в издательстве «Прогресс»: это была должность « подчитчицы », то есть я читала французские тексты вслух корректору, а тот правил гранки.. В той же редакции работала Катрин, владевшая в совершенстве французским языком; лишь позже я узнала, что её папа был переводчиком в издательстве «Московские новости», а также и то, что её семья приехала в СССР из Франции. Особых вопросов я не задавала, да и вообще все эти вещи были для меня совсем непонятны. Как-то она мне сказала, что у неё есть кузен, который учится в том же ВУЗЕ, что и я, но на переводческом факультете. Жил он тогда общежитии, в Петроверигском переулке, находящемся не так далеко от площади Дзержинского, с её знаменитым монументом «Железного Феликса»… Однажды Катрин предложила мне зайти в общежитие к её кузену, я тотчас же согласилась. Трудно передать обстановку того времени; ведь тогда так просто в студенческое общежитие было не войти: на первом этаже, возле входной двери, сидел страж нравственности; тогда этих дам называли дежурными или комендантами. Посмотрев на нас с некоторым презрительным недоверием, она позвонила по внутреннему черному телефону, стоявшему перед ней на столе; затем она пропустила нас наверх, указав этаж и номер комнаты.
Само здание – и снаружи, и внутри – было удивительно убогим; оно вписывалось в эстетику тех лет: бурые дверные наличники, стены темно-болотного цвета со сбившейся местами штукатуркой, стершийся пол, оборванная дорожка, тусклые лестничные проёмы… Мы поднялись на какой-то этаж и постучали в дверь. Вскоре нам открыл высокий и стройный молодой человек – наш визит был для него полной неожиданностью. Представившись, он протянул мне руку. Это прикосновение вызвало у меня лёгкое головокружение, хотя я даже не успела как следует рассмотреть его. В комнату он нас не пригласил – у его соседа как раз гостили родители из какого-то провинциального города. Мы немного поговорили и решили встретиться в другой день.
Именно в тот миг лёгкого головокружения он и вошёл в мою жизнь. Мне только что исполнилось девятнадцать. Но вместе с ним вошёл и другой, незримый гость – тень железного командора, чья статуя стояла тогда перед зловещим зданием на площади Дзержинского. И эта железная поступь ещё не раз заставит меня вздрагивать…
Кузена звали Андрэ. Он был высок, прекрасно сложен, с очаровательной улыбкой. Все девушки в институте были от него без ума. Не прошло и полугода, как мы поженились. Свадьба была на его так называемой «родине» – в Дербенте, куда его привезли тринадцатилетним мальчиком. В Москву и её окрестности их не пустили – так они и оказались на берегу Каспийского моря. Он жил там с отцом и бабушкой – Марией Андреевной, сестрой знаменитой актрисы Варвары Костровой.
Мальчик вырос, поступил в институт – так он и оказался в московском общежитии. Я была для него выгодной невестой: москвичка. Хотя, думаю, он об этом не задумывался. Да и в девушках у него не было недостатка – многие мечтали его заполучить. В институте он отличался: не носил головного убора – привычка, оставшаяся ещё со времён жизни во Франции, – да и климат Дербента, думаю, не способствовал этому. Он ходил в джинсах, о которых в то время ещё мало кто знал. Нашёл портного, который шил их за десять рублей из какой-то синей ткани. В общем, он был красив и привлекателен, и девушки буквально висли на нём.
Брак зарегистрировали в местном ЗАГСе Дербента. Было 13 августа 1962 года: солнце светило ярко, и стояла изнуряющая жара. Кто-то подарил мне букет полевых цветов – таких, какие росли в Подмосковье. Прекрасные в своей простоте, они напомнили мне лето моих пятнадцати лет. Тогда мы снимали дачу на станции Луговая. Поля с белеющими ромашками, васильки почти нереальной синевы, шмели и мошки, пьянящие ароматы – всё сливалось в ощущение счастья и покоя.Мы пили местное сухое вино, слушали французских шансонье: страстно пела Эдит Пьяф – она пела о любви, и казалось, что начинается счастливая жизнь
Как видно тот самый свадебный букет напомнил мне год моих пятнадцати лет, когда мы снимали дачу на станции Луговая; именно тогда я читала «Обрыв» Гончарова.Тогда и сформировался в моей юной голове образ того, что мы называем любовью… Что я могла тогда знать о ней??? Никаких примеров кроме как семейных историй у меня не было; были и литературные герои и героини, да еще персонажи итальянского или французского кинематографа.Да и героини русской литературы всегда мечтают об идеале.и Да и «Мадам Бовари» – та же история: женщина, вечно ищущая того, кто мог бы полюбить её «по-настоящему». Меняются мужчины, но неудовлетворённость остаётся той же.
Да и романсы, которые пели мама и тётя, были о любви – сказочной, воображаемой, никогда не существовавшей. Что было важнее для всех этих женщин – реальный мужчина или мечта о нём? Создаётся впечатление, что именно мечта была важнее. Любовь ли это? Да и что я сама могла знать о любви? Примеров не было – разве что семейные истории, литературные героини, да персонажи итальянского и французского кино. На Луговой я убедила себя, что любовь всегда несчастна – таковы были все мои книжные и экранные доказательства. Даже в «Обрыве» Вера как будто повторяет судьбу своей бабушки Татьяны Марковны. «Обрыв» – это вовсе не обрыв Веры, а бабушкин. Метафора того, что у каждого есть свой собственный край, с которого он может сорваться в пропасть.
И чем мог помочь мне тот милый юноша, ставший моим мужем? Ничем.Он сам был в поиске той, которую по-настоящему не знал.Он не помнил её – лишь фотографии: юная девушка, восемнадцать лет, младенец на руках… Она передала ему красоту, цвет волос, очарование улыбки. Это всё, что у него от неё осталось. Ему была нужна не жена, а мать – понимающая, прощающая, способная утешить и обогреть.
Могла ли я быть такой для него? Конечно, нет. У меня самой были лишь смутные ожидания – чего-то неведомого, чего я и сама не могла определить. Мне тоже был нужен не муж, а отец – с ласковой улыбкой, с одобрением, с любовью. Два ребёнка в ожидании родительской любви: он – материнской, я – отцовской. Это не могло привести ни к чему, кроме того самого обрыва. Мы упали с вершины собственных иллюзий в реальность, которую не хотели признавать.
Советская реальность тоже не замедлила напомнить о себе. В моём паспорте стоял штамп: муж – молодой человек 23 лет, рождённый в Париже в 1940 году. Само это слово – Париж – вызывало у многих вопросы. Андрея воспитывала бабушка – мать ушла, бросив его на отца и, по слухам, сбежала в Америку с каким-то американцем. На самом деле – это я поняла из мемуаров Варвары Костровой:после освобождения Парижа, в нем появились американцы. Варвара Кострова, будучи одержима любовью к Советам, захотела вернуться на родину в СССР. При этом она решила взять с собой всю семью, включая и Андрея, сына племянника. Однако, по всей вероятности, мать Андрея – юная девушка, родившаяся в Болгарии, ехать туда не захотела, ведь СССР не был её родиной.Возможно, что встретив американца, она уехала с ним в Америку.А вот эта фраза "сбежала в Америку" рисовала образ матери, бросившей ребенка. С этой травмой мальчик и прожил всю жизнь. Он хотел её найти. Говоря о ней, стискивал зубы, глаза сужались, и он судорожно затягивался папиросой. Он страдал. Он искал первую, неповторимую, недостижимую – мать.
После трагической смерти его отца в Дербенте, в возрасте 46 лет, он был сломлен: никто не хотел расследовать это непонятное убийство; его отец в глазах советской власти был эмигрантом, не заслуживающим ни сочувствия, ни справедливого суда…. Все это не могло не отразиться на сыне: в свои 24 года Андрей начал выпивать, в институте с кем – то поссорился, его выгнали, и он отправился в армию. Оказавшись в стройбате, он познал всю неприглядность человеческих отношений, а вернувшись оттуда, он женился, но вскоре развелся и уехал на север; там была уже новая, третья жена, а потом и совсем пропал из поля моего зрения. Общие друзья ничего не слышали о нем; кто то сказал, что видел его на вокзале, он ехал на север; именно на севере, в Гулаге погиб муж его двоюродной бабушки Варвары Костровой – Анатолий Каменский – поэт и писатель Серебряного века. Возвращение на родину из прекрасной Франции для всей семьи закончилось крахом; судьбы были сломаны, причем у всех…
Когда мы ещё были вместе, Варвара Андреевна иногда приходила к нам в коммуналку. Тогда она читала лекции в обществе «Знание». Мы не знали, что эта маленькая женщина с седыми волосами, моющая руки под ржавым краном, когда-то жила в отелях Парижа. Мы не знали – но она помнила. И вот, однажды, на кухне, услышав, как семья Цингеров, демонстративно перейдя на французский, как бы давала понять, кто тут «настоящие», она вдруг сама заговорила на языке своей юности. Кажется, она хотела напомнить: и у нас есть своё прошлое. С тех пор Цингеры начали относиться к нам с заметно большим уважением.
Александр Иванович Сахнов – муж Татьяны Александровны Цингер. Его фамилию я однажды увидела в энциклопедии в разделе художников. Он всё время рисовал женские портреты; даже моя мама как-то позировала ему и потом сказала, что это дело трудное. Тётю возмущали сине-лиловые тона на его полотнах. Когда он выпивал четвертинку и начинал бродить по коридору, разбрасывая ботинки, она ругала его и упрекала: кроме «лиловых женщин» – ничего не умеет.Возможно, он подражал французским импрессионистам: у Матисса, например, встречаются яркие тона. Современников поразил портрет «Мадам Матисс», и многие говорили об его «уродливости». Тогда их шокировали цвета – лилово-сине-зелёные.

