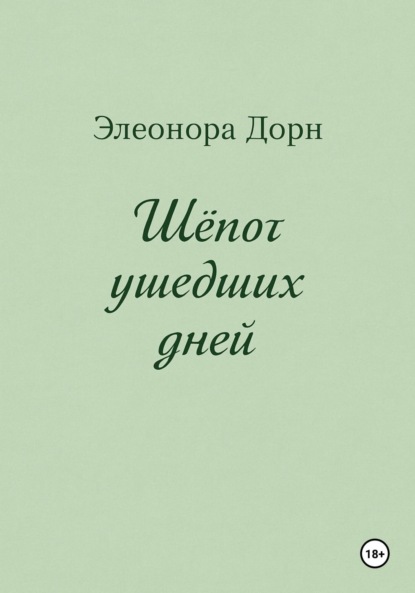
Полная версия:
Шепот ушедших дней
Когда же Александр Иванович был в благостном настроении, стоя у закопчённой плиты с папиросой «Беломорканал» в руке, он рассуждал о литературе. Помню, как он объяснил мне название романа Солженицына «В круге первом» – говорил о кругах Ада у Данте. Видно, самого Солженицына он читал тогда в самиздате. Могу ли я жалеть, что до 26 лет жила в коммунальной квартире?
Память о той первой встрече в тусклом коридоре московского общежития заставила меня вернуться туда этим летом – спустя почти пятьдесят лет. Я не забыла того головокружения от первого прикосновения мужской руки. Мы с мужем искали какой-то переулок и неожиданно увидели надпись: Петроверигский переулок. Я решила показать своему последнему мужу – тоже французу – здание, где когда-то встретила своего первого «француза». Человек, рождённый во Франции, считается французом по праву почвы.
Мы быстро нашли здание общежития: оно всё ещё принадлежало Институту иностранных языков, теперь – Московскому государственному лингвистическому университету. Название звучит весомо, но само здание выглядело запущенным: грязный фасад, немытые окна – кажется, их не мыли годами. Вход всё тот же – «советский»: буро-зелёные стены, истёртый гранит, коврик, похожий на половую тряпку. Заходить внутрь не стали – я и так знала, что нас там ждёт только разочарование. Мы быстро покинули двор и переулок. Подумалось: в какой убогости прошла моя молодость. Было жаль – и себя, и его, и ту самую молодость.
Вспоминаю ещё один эпизод. Я шла по Садовому кольцу и вдруг увидела девушку – как с обложки глянцевого журнала. Это оказалась моя подруга – в бледно-розовом пальто и чёрной соломенной шляпе. Весна, цветущая вишня – и она, словно Натали Вуд. Её звали Наташа.В те годы мы учились рисовать стрелки, а на нижнем веке аккуратно вырисовывали ресницы, желая подражать тогдашней светловолосой – манекенщице Твигги; да и у нас самих в Москве была такая же русская Твигги – Галя Миловская, живущая неподалеку от меня… Она вышла замуж за известного тогда в Москве адвоката Сергея Миловского.
Мы садились на диеты, худели, экспериментировали с причёсками, красили волосы – мечтали стать похожими на западных кинозвёзд. Моим идеалом стала Марина Влади. Перед зеркалом в старом шкафу я распускала волосы, спускала плечо рубашки и представляла, как на меня смотрит Морис Ронэ из фильма «Колдунья» – по Куприну. Там была несчастная любовь. Всё сливалось воедино: любовь, красота, кино.
На Садовом кольце жил Люсьен Но, корреспондент «Пари Матч». Он был женат на Наташе – жгучей брюнетке, которую звал «чумазик». Яркая, с броским макияжем. Мужчины тогда всё время рвались куда-то: одной жены было мало – нужна была муза, дама для вдохновения. У Люсьена был роскошный "Шевроле". После посиделок мы мчались на нём в кафе «Националь».
Его друг Виктор Щапов был известен любовью к красивым женщинам – особенно блондинкам. Он был богат, приглашал всех, порой целой компанией в дорогой ресторан. Расплачивался за всех. Мы знали его бывшую жену Таню и вторую – Олю.
Виктор был гораздо старше меня. Элегантен, галантен – но мне не нравился. Он приходил в нашу коммуналку, буквально просил моей руки у мамы. Однажды, подвёл к зеркалу и сказал:– Такой внешности нужна дорогая оправа.Но меня это не убедило.
Приближался 1968 год. Он пригласил меня на празднование Нового года в Дом кино. Подруга сшила мне красивое чёрное бархатное платье с атласными бантиками. Я ждала звонка – но он так и не позвонил. Новый год я встретила одна – с платьем, которое так и не надела.
Позже я узнала: Виктор познакомился с Еленой Щаповой за несколько дней до праздника и пригласил её – вместо меня. У них завязался роман, потом брак. Недолгий: её увёл тогда ещё никому не известный Эдуард Лимонов. Скромный, молодой.
Моя жизнь изменилась летом 1968 года – я познакомилась со своим будущим мужем. Мы пошли вместе на выставку, и Щапов удивился, увидев меня с молодым, красивым мужчиной.
Лена Щапова была эффектной – высокая, в широкополых шляпах. Когда она появлялась в модном салоне «Чародейка», все сбегались взглянуть на неё. Когда она оказалась в Париже, то выпустила книгу стихов, на обложке которой она была абсолютно обнажённой. Моя подруга-манекенщица, жившая в Париже, была этим удивлена. Возможно, Лена хотела доказать: в человеке всё должно быть прекрасно – и лицо, и одежда, и душа. И она действительно была прекрасна.
Жизнь в те годы казалась весёлой и беззаботной, однако это ощущение было обманчивым. Она протекала на фоне советских плакатов вроде: «Вперёд – к победе коммунизма!», партийных и комсомольских собраний. На собраниях нас обязывали делать доклады по произведениям Ленина, а позже – и Леонида Брежнева. Похоже, у нас выработался иммунитет: мы не особенно обращали внимание на окружавшую нас пропаганду. Мы жили своей жизнью – у нас были любимые книги, любимая музыка, и мы любили идти наперекор запретам. В общем, у нас была своя жизнь. Мы были не слишком боязливы, даже довольно авантюрны: зная, что нас прослушивают, не боялись заводить знакомства с иностранцами – что тогда не одобрялось, хотя формально и не запрещалось.
Мы ездили отдыхать и в Прибалтику, и в Крым. Мы были молоды, нас не смущали ни длинные очереди за комплексными обедами, ни старые ржавые кровати, которые нам сдавали в помещениях, больше похожих на курятники, чем на жильё. Некоторые из нас селились в домах творчества или в санаториях Министерства обороны. Помню, как однажды поехала в Таллин с компанией актёров и художников. Не помню точно название гостиницы, в которой мы остановились, но хорошо помню обед в ресторане «Палас». Вышколенные официанты в белых фартуках, наподобие тех, что носят в парижском кафе Les Deux Magots, подали нам суп из омаров. Своей учтивостью они произвели на меня сильное впечатление. Прибалтика тогда воспринималась нами как заграница. Контраст с Россией был огромен: на каждом перекрёстке – маленькие кафе, устройства для варки кофе, маленькие столики с белоснежными скатертями, вазочки с цветами, улыбчивые официанты… Всё это казалось той заграницей, которую мы не знали, но именно так себе и представляли.
А по вечерам вдоль побережья прогуливалась творческая интеллигенция – отдыхающие из дома творчества в Дубултах, а также публика из других пансионатов. У концертного зала в Дзинтари можно было встретить ещё молодого Кирилла Кондрашина с тросточкой. Он был там со своим симфоническим оркестром, в котором играл и мой брат. Там же любил знакомиться с девушками Коля Петров – тогда студент консерватории, а позднее известный пианист. Коля обожал рассказывать анекдоты и производить впечатление на девушек. Была и Надя Чалова со своим будущим мужем Кириллом Арбузовым – с Надей мы учились в одной французской школе, а позже жили рядом, у метро «Аэропорт». Гулял и молодой Женя Асс – тогда совсем юный, со светло-рыжеватыми волосами. В общем, там отдыхал весь тогдашний бомонд…
Не могу не вспомнить и знаменитый в ту пору ресторан «Лидо», неподалёку от центральной улицы Йомас. Днём там был ресторан, где можно было попасть на комплексные обеды, а вечером – уютное место с лампами в маленьких красных абажурах на столиках, создававшими атмосферу уюта и интимности. Посетители были самые разные, в основном москвичи. Столики стояли и внизу, и на возвышенности у лестниц, ведущих к эстраде. Внизу – танцевальная площадка. Женщины были красивы и модно одеты, мужчины – воспитанны. С эстрады звучали песни в исполнении популярного в Риге шансонье – Льва Пильщика.
Мне же особенно дороги были вечера с друзьями – студентами Щукинского училища, тогда ещё неизвестными, а впоследствии ставшими звёздами Театра на Таганке: Феликс Антипов, Виталий Шаповалов, Саша Вилькин. Мы сидели на улице и пили вино, вспоминая о том, как в сашиной московской квартире в Последнем переулке мы ели пельмени. Он же играл на гитаре и пел: «А на нейтральной полосе цветы…».Саша – ныне художественный руководитель театрального центра «Вишнёвый сад».Прекрасная беззаботная молодость.
История любви моей тёти Тамары была непростой. Её отец, итальянец по происхождению, архитектор, строил в Москве район Ховрино – видимо, в 30-е годы XX века. У него было два сына – красавца, которые однажды ушли в гости к друзьям и не вернулись. А вскоре и сам отец, Эраст Чиаро, оказался в ГУЛАГе, где и погиб. В отличие от моей мамы, Тамара носила фамилию отца, хотя тоже считалась незаконнорождённой. Её фамилия была русифицирована – и она стала Тамарой Эрастовной Чиаровой. Так и он сам стал Чиаровым.
Сын профессора А. В. Цингера – Вадим Александрович – влюбился в мою тётю. Они жили в одной коммунальной квартире. Тётя была статной красавицей с карими глазами и вьющимися каштановыми волосами – всё это, вероятно, досталось ей от итальянца-отца. От матери – великолепная фигура. Она обладала породистой внешностью и музыкальными способностями. В 18 лет её приняли в театральное училище при Театре Советской Армии.
Она влюбилась в Вадима. Это была её первая любовь и первый мужчина. Детей у них не было. Роман был недолгим, расставание – трагическим. Его арестовали за рассказанный где-то анекдот, отправили – куда, неясно, и там он погиб. Она так и не оправилась от этой утраты. Позднейшие браки оказались неудачными, и в итоге она осталась одна. Возможно, арест Вадима был связан с его отцом. Профессор Александр Васильевич Цингер уехал в Германию на лечение в 1922 году. Все четверо детей – два сына и две дочери – остались в Москве с матерью, Евгенией Евгеньевной. Профессор же уехал с актрисой из МХАТа, от которой у него был сын Олег, впоследствии художник.
В письме к академику Вернадскому он просил зайти к сыну и взять деньги (червонцы) на покупку журнала «Природа», подписка на который прервалась. В том письме был указан адрес сына – Вадима Александровича Цингера. Письмо можно найти в интернете. Вероятно, сам факт, что отец учёного жил и работал в Германии, вызвал подозрения. Семья попала под надзор. Молодого Вадима арестовали. Он погиб в лагере.
Частично история этой семьи открылась мне благодаря роману Даниила Гранина «Зубр». Судя по всему, профессор Цингер, биолог и физик, сначала оказался в Германии на лечении, а позже работал в лаборатории с Николаем Тимофеевым-Ресовским. Последний также занимался биологией. Из романа известно, что Тимофееву-Ресовскому удалось сохранить лабораторию, но позже его обвинили в измене родине и отправили в лагерь. Профессор Цингер умер в Германии в 1934 году. До отъезда он сотрудничал с Тимофеевым-Ресовским и Дмитрием Ивановичем Сахаровым – физиком и преподавателем. Цингер оставил Сахарова своим представителем в издательских делах. Его сын Олег, родившийся от актрисы МХАТа, позже переписывался с сыном Сахарова – Андреем Дмитриевичем, будущим академиком, и присылал ему альбомы со своими рисунками животных. Такова история семьи Цингеров. Я им многим обязана.
Японизм в России
В детстве, а потом и лет в пятнадцать, я любила бывать в комнате тёти Тамары. Комната была маленькая, но уютная. Кресло, стол с трельяжем и удивительная японская ширма с бабочками и цветами – инкрустация. На ширме – не только перламутровые цветы и бабочки, но и образы японских женщин в кимоно, с изящными причёсками и тонкими чертами лица. Это был волшебный мир, населённый сказочными персонажами – драконы, птицы, цветы, загадочные дома на вершинах заснеженных гор. Женщины в кимоно – а позже я узнала, что это может быть и косодэ, традиционная японо-китайская одежда – как будто оживали в моём воображении. Их окружали узловатые деревья, перламутровые птицы, и всё это будило мою детскую фантазию. Японизм дошёл и до России, как когда-то завоевал Европу в конце XIX века. Французы были особенно увлечены: их восхищали японские гравюры, где женские фигуры напоминали цветы. Для них женщина была частью японского пейзажа…
Вот и меня, советского ребёнка, тогда покорила та самая ширма. Я была маленькой, лет восьми. А если бы на заре юности мне попалась история японской куртизанки Нидзё, она подействовала бы на меня не меньше, чем «Обрыв» Гончарова. Ведь и в «Непрошеной повести» Нидзё, и в романе Гончарова речь идёт о любви – несчастной любви. У одной был обрыв, с которого она чуть не сорвалась в бездну, у другой – Храм на горе, который её спас.
Героиня «Непрошеной повести» была куртизанкой. Куртизанками в те времена становились женщины из хороших семей, получавшие прекрасное образование: они сочиняли стихи, вели беседы, развлекая гостей, превосходно танцевали и играли на музыкальных инструментах. Однако век их был короток: куртизанку всегда можно было заменить другой – моложе и привлекательнее. «Непрошеная повесть» была написана в Средние века, но звучит очень современно. Как и полагалось тогда, в пятнадцать лет Нидзё стала придворной дамой и фавориткой «прежнего императора» – Го-Фукакусы. Нам кажется, что то время так далеко от нас, что не может быть ничего общего между историей японки, жившей в XIII веке, и современной женщиной. Но рассказ убедил меня в обратном – это история любви, которую ищет любая женщина, будь то Япония XIII столетия или современный мир.
Сам Государь в детстве Нидзё занимался её образованием. Повесть, написанная женщиной японского средневековья, читается легко. Её рассказ поэтичен: каждое внутреннее переживание она облекает в метафору – грустную, весёлую или возвышенную. Её язык передаёт не только собственное настроение, но и оживляет пейзаж – будь то заснеженные горные вершины или Храм, к которому стремится её душа. Всё становится осязаемым, можно почти почувствовать запах цветущего миндаля или вишни.
Что побудило её встать на Путь, ведущий к Храму? Жажда искупления. Её душа стремится к покою – вечному покою, где она сможет слиться с тем, что именуется вселенской гармонией. Но прежде чем ступить на этот Путь, ей предстоит прожить свой век в роли любимой куртизанки Государя. Всё в рассказе Нидзё пронизано поэзией: прощание с возлюбленным всегда происходит при свете побледневшей луны, раннее пение птиц возвещает разлуку, роса становится символом бренности жизни. И как печален образ женщины, отвергнутой Государем – отныне она «орошает рукава потоками слёз». Эти рукава как ничто иное передают её душевное состояние…
В начале повести она счастлива: Государь выбрал именно её в фаворитки. В конце – она одинока, уже буддийская монахиня, в изношенной чёрной рясе. Ей всего сорок один, а она уже отрекается от жизни, ища покоя в затворничестве и молитвах.
Жизнь Нидзё не была счастливой – она ожидала другого, и от жизни, и от Государя. Что мог он дать ей, кроме недолговечной любви? Мать она потеряла в четырёхлетнем возрасте, её образ уже стёрся в памяти. Тогда же Государь взял её и отца ко двору. Она была ещё ребёнком, а он ждал, когда она подрастёт, чтобы сделать её своей избранницей. У него была жена. Но юная Нидзё была слишком молода, она любила только отца, мечтая как можно дольше быть рядом с ним. Отец, зная её судьбу, внушал: женщина должна быть уступчивой, мягкой, послушной.
В пятнадцать она не была готова к любви. При признании в любви Государя она не переставала плакать: даже рукава его одежды были мокры от её слёз. Он не настаивал, он понимал её юность и неопытность. Вместо этого он послал ей стихи:
Мне, право, ты стала близка.Пускай в изголовье Рукава твои не лежали —;Не забыть мне их аромата.
Потом она была счастлива с ним долгие годы, надеясь, что ребёнок укрепит их союз. Но ребёнок умер. Государь скорбел, уверял, что их связь нерушима, что его сердце принадлежит только ей. Она хотела верить, что счастье вечно. Но нет, ничто не вечно. Она тоже ему изменяла, как и он ей – такова была жизнь при дворе. И хотя он убеждал её в любви, она не верила: ей казалось, что он охладел.
Она решила покинуть дворец. Они не виделись два года. Он вновь призвал её, уверяя в любви. Она не верила, вновь и вновь слёзы «увлажняли рукава». Ей казалось, что и месяц плачет вместе с ней. Она пустилась в странствие – искала исцеления, избавления от боли.
Она вспоминала, как её имя внесли в список придворных, как Государь заботился о ней, как отец. Но его особая благосклонность, как ей казалось, исчезла. Тогда она решила встать на путь Будды. Мир, от которого она бежала, был полон скорби. Она тосковала по дворцу и не могла забыть любви Государя. Она плакала, размышляя о смерти и бренности бытия. Человек приходит в мир один – и уходит один. Всё циклично: за встречей – расставание, за рождением – смерть.
Переходя от храма к храму, она искала прощения. Природа открывалась ей: то пронизывала холодом, то пьянила ароматами. Осенние листья, слетающие от лёгкого ветра, напоминали о недолговечности красоты. Она вспоминала, как, будучи монахиней в чёрной рясе, последний раз предстала перед Государем. Он узнал её и признался в любви. Рассвет напомнил им о краткости счастья. Остался только аромат его одежды – аромат дорогих курений. Она унесла его с собой, вновь ступив на Путь – к Храму и к великой тайне существования…
Они встретились незадолго до его смерти. Он признался, что после смерти её родителей почувствовал обязанность заботиться о ней. Он говорил, что любил её всегда. Узнав о его смерти, она поспешила на погребение, но успела лишь увидеть дым от костра. Всё было кончено. Она осталась одна. И чтобы почтить того, кого любила более всех, она пришла на то же место, где сгорело тело её отца. Кого же она любила больше всего? Не отца ли, которого, сама того не зная, искала в Государе?..
Чтобы её мысли не канули в Лету, она и написала «Непрошеную повесть».
Эта повесть поразила меня своей искренностью и чистотой. Да, это снова история любви – но любви японки, жившей в Средние века. Повесть Нидзё тронула меня и потому, что в нашей семье жила своя – почти легендарная – история. Говорили, что у матери моей прабабушки по папиной линии, Эмилии Фёдоровны Усачевской, был роман с японцем – то ли домашним учителем, то ли ещё кем. Он жил в семье, и барышня влюбилась. Это было, видимо, в 1853 году, поскольку моя прабабушка родилась в 1854-м. Родители узнали, японца забили до смерти на конюшне, а беременную девушку выдали замуж за некоего клерка по фамилии Бондаренко. Девочка родилась под его фамилией. У Эмилии Фёдоровны были чуть раскосые глаза – этим она наградила всю нашу семью.
Когда я родилась, маме принесли тёмноволосую девочку с чёрными, чуть раскосыми глазами. Мама сказала: «Похожа на японку» – не зная ещё всей этой истории. Уже в зрелом возрасте я впервые увидела фотографию своей прабабушки – и поразилась: чем-то я похожа на неё – едва раскосые глаза, причёска с чёлкой, не свойственная для женщин кроме меня в семье XIX века. Ни у кого кроме меня в семье не было чёлок, бантиков, кружевных воротничков… Позже, уже взрослой, я заинтересовалась её судьбой и узнала о японце. Возможно, именно эта «печать» осталась на наших лицах – как память о загубленной жизни красивого, молодого мужчины, оказавшегося, к несчастью, японцем. Может быть, эта история и пробудила во мне интерес сначала – к японской ширме… А потом – к повести Нидзё. Всё в жизни не случайно.
Поездка в колонию
Шёл 1972 год. Осень или ранняя весна – не помню точно. Погода была слякотной и пасмурной. В длинном красном пальто, со светлыми волосами и лисьей рыжей шапкой, я подъехала к заведению без адреса – только номер. Таких безликих учреждений и сейчас предостаточно. То было недалеко от Тулы. Я ехала поездом, затем – автобусом или чем-то ещё. Меня впустили в дощатый домик с чудовищным запахом – щей или грязи. На лавках – мрачные женщины с огромными сумками: кто вёз еду сыну, кто мужу, кто брату. Эти воспоминания не покидают меня и теперь. Всё вспоминается: колючая проволока, собачий лай, серый снег, моё красное пальто и длинные волосы. Пришлось ждать, показывать паспорт, называть фамилию – фамилию мужа.
Меня пропустили вместе с остальными, направив куда-то, где перед нами неожиданно вырос барак. По деревянной лестнице мы гуськом поднялись на второй этаж. Перед нашим взором открылся длинный коридор – как в коммунальной квартире: слева были двери, а где-то в середине, тоже слева, располагалась кухня, на которой родственники, приехавшие на трёхдневное свидание, что-то разогревали и готовили. У входа стоял охранник – выходить было запрещено. Каждого из нас развели по комнатам, в которых стояли железная кровать, покрытая серым солдатским одеялом, стол, а на потолке висела тусклая, покрытая пылью лампочка.Вошла женщина – надзирательница. Она ещё раз проверила сумки, а затем беззастенчиво обшарила меня – не пронесла ли я чего запрещённого…
Через какое-то время начали вводить заключённых: все были побриты наголо, в тёмной одежде, похожей на спецовки. Так прошли три дня и три ночи. В шесть утра нас будил заливистый собачий лай – как видно, в это время заключённых выводили на работу. Пронзительный лай этих «верных русланов» приводил меня в ужас. Чёрные ветви деревьев за окном без занавесок, серый снег и непривычные звуки напоминали о страшной реальности, с которой нам пришлось столкнуться на заре нашей молодости. Мы были далеко от дома, уюта, всего привычного и дорогого. Не с тех ли пор мой бывший муж полюбил собак?.. Не случайно говорят: именно одинокие люди особенно привязываются к животным…
Были свидания и в Москве – в самом, если так можно выразиться, «престижном» пенитенциарном учреждении. Тамошняя библиотека была просто великолепной: множество академических изданий, авторы – первоклассные. Очевидно, книги были конфискованы у лучших представителей русской интеллигенции. Выбор был широкий, издания – редкие. На страницах стояли штампы: НКВД, МГБ, КГБ СССР – все переименования хранились на пожелтевшей бумаге.
Помню, однажды муж дал мне почитать «Жизнеописания наиболее знаменитых живописцев, ваятелей и зодчих» Джорджо Вазари – книга была написана им в 1565 году по заказу герцога Медичи. В русском переводе она вышла в издательстве Academia в 1933 году. Предисловие написал сам Луначарский. Насколько помню, мне тогда удалось вынести книгу домой. Что с ней случилось потом – не помню…
Безусловно, не каждый решился бы на такое, но нас запугать было трудно. Лозунги, комсомольские собрания, идейные передачи и пропагандистские статьи с нелепыми заголовками скользили по поверхности нашей жизни, не пуская корней. Мы жили тем, что нам было по-настоящему интересно, волновались о тех ценностях, что были привиты нам родителями – людьми образованными, достойными. Я тогда перевела с французского Нобелевскую речь Солженицына. Она была напечатана в каком-то иностранном журнале – вероятно, мне его подарил кто-то из туристов. Я ещё работала в «Интуристе», из которого меня вскоре уволили – советская власть не одобряла мой выбор мужей, и это создавало проблемы в той далекой жизни.
Он
Помню его совсем молодым, не более 24 лет: высокий, стройный, с безупречными манерами и роскошным английским языком. Переводчики, окончившие не только Институт иностранных языков, но и курсы ООН, говорили: «Саша говорит по-английски, как никто в Москве». У него с детства была бонна – настоящая англичанка. Я сама помню, как ходила на частные уроки к пожилой мадам – в те годы это ещё было возможно…
Он был прекрасен: курил элегантную трубку, напоминал скорее англичанина, чем русского. Дружил с культурным атташе французского посольства. Он дорожил своей свободой, не выносил занудства и показной серьёзности, обожал шутки, интригу, был спонтанен. Все им восхищались, предрекали великое будущее. Признаюсь, таких ярких и необычных я больше никогда не встречала. Ни тогда, ни позже. Но это было тогда…
Во время его заключения я получила множество писем, стихов, рассказов и переводов. Всё было блистательно написано. Один его друг, близко общавшийся с Мерабом Мамардашвили, говорил мне: у Саши огромный талант, скорее даже к поэзии, чем к прозе. Переводы – блистательные. Мне так хотелось, чтобы, выбравшись из всех передряг, он начал писать. Но разве власть могла позволить ему это? Она чтит либо давно умерших классиков, либо тех, кто ей по вкусу. Всё живое и талантливое – губит. Без сожаления. И по сей день привычки свои не изменила…
Вернувшись к нормальной жизни, что мог он ценить больше, чем свободу? Она пьянила, тянула как магнит. Он истосковался по друзьям, по застольям с бокалом шампанского. Он стремился не убежать из дома, нет – он рвался в открытый мир, чтобы быть с друзьями, чтобы шутками и смехом засвидетельствовать свою любовь к жизни.
И вот – высокий, стройный, в тёмно-синем пальто – он выпархивал в заснеженный мартовский пейзаж за окном московского дома. Два женских взгляда – один, ещё не оформившийся, и другой – полный беспокойства – следили за его удаляющейся спиной. Казалось, он уходит навсегда. Почему этот страх? Хотелось, чтобы он обернулся, посмотрел, будто говоря: «Я вернусь. Я люблю вас обеих. Я вас не брошу…» Кого провожала она, взрослая, не ребёнок? Или она сама в тот момент превращалась в ребёнка, испугавшегося, что он уйдёт к другой – той, что теперь его жена, что смеётся так весело при его приближении? Нет, то был отец. А это – муж. Он не может так…

