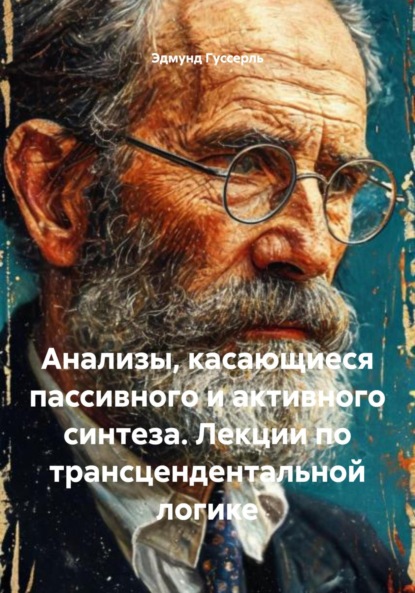
Полная версия:
Анализы, касающиеся пассивного и активного синтеза. Лекции по трансцендентальной логике
Характерно для сомнения и возникающего в нём вопроса: я "не убеждён заранее" в том, что есть в достоверности; и я не просто вывел эту достоверность из игры.
Есть и вопрос на иной основе: когда я "внутренне уже убеждён", что, напр., А, но ставлю под вопрос: А ли это или Б? (т.е. без желания решить охватившее меня сомнение). Как я прихожу к этому? Какой смысл?
Достоверность может быть неполной, нечистой, и я ищу более полную или совершенно чистую достоверность.
В предыдущем рассмотрении мы различали нечистые (в этом смысле неполные) и полные (чистые) достоверности – относительно определённого типа: достоверностей трансцендентного восприятия. Рассмотрим модификации достоверности подробнее.
Такая достоверность нечиста, поскольку имеет модус "решения за вовлечение" – субъективно уверенного решения за вовлечение, "несмотря на" присутствие противоположных вовлечений (с их весом), "против" которых Я решает. Я не принимаю их, хотя их вес "требует" признания. Это требование состоит в самом весе – аффективной силе, которую вовлечение оказывает на активное Я. Под аффективной силой я понимаю тенденцию, направленную на Я, реакцией на которую является "отзывчивость" ["Reagibilität"] Я. Уступая воздействию (будучи "мотивированным"), Я занимает позицию признания; оно "активно решается" за вовлекающее в модусе "субъективной достоверности".
"Чистая" достоверность" возникает, когда противоположные вовлечения "полностью теряют вес" (вычёркиваются по ходу опыта); они переживаются как прямые ничтожности. "То, что есть", решается "со стороны дела", "само собой". Решаясь, Я "следует" решению дела. Ему не нужно принимать чью-либо сторону. Почва выбита из-под других возможностей; единственное основание (как основание достоверности дела) "наличествует само собой". Я находит себя стоящим на нём и лишь субъективно утверждается на нём.
Есть более простой случай: там, где не может быть речи о решении, ибо противоположные вовлечения "изначально отсутствуют", а вместо них – "открытые" возможности. Пример из внешнего опыта: наблюдая кузнеца, я ожидаю, что поднятый молот упадёт и расплющит железо; видя падающий стакан, ожидаю, что он ударится о землю и разобьётся. Альтернативные возможности есть: может вмешаться непредвиденный эффект; толчок может бросить стакан на соломенную циновку, а не на каменный пол. Всякое событие как физическое окружено горизонтом "открытых" возможностей – но они "открыты"; в данный момент "ничто не говорит в их пользу". Ожидания суть "прямые", "не подавленные" достоверности; им не противостоит модифицированное ожидание относительно вовлечения.
"Ключевые терминологические решения:"
– "Open possibilities" → "Открытые возможности"
– "Enticing possibilities" → "Вовлекающие возможности"
– "Prefiguring" → "Предвосхищение"
– "Presentification" → "Презентификация"
– "Modalization" → "Модификация" / "Модализация"
– "Certainty" → "Достоверность"
– "Doubt" → "Сомнение"
– "Propensity to believe" → "Склонность к принятию"
– "Leeway" → "Пространство возможностей"
– "Noetic/Noematic" → "Ноэтический/Ноэматический"
Аналитический обзор ключевых идей Гуссерля о модальностях сознания (§10-13).
Ядро анализа: Гуссерль исследует не однородную "возможность", а фундаментальное различие двух типов модальностей, укорененных в структуре интенционального сознания: 1) Открытые возможности (Offene Möglichkeiten) и 2) Вовлекающие возможности (Verlockende Möglichkeiten). Это различие радикально, так как они имеют разное феноменологическое происхождение и эпистемологический статус. Первые возникают из неопределенности горизонта восприятия (§10), вторые – из конфликта мотиваций в сомнении (§11).
Трудность 1: "Открытая возможность" vs. "Неопределенная общность". Гуссерль подчеркивает, что предвосхищение невидимой стороны предмета (напр., задней стороны книги) обладает достоверностью, но достоверностью неопределенно-общего характера ("какой-то цвет", "возможно, с узором"). Это не логическая абстракция, а имманентная черта перцептивного сознания – "пустое указание вперед" (Noesis) и соответствующий "черта смысла" (Noema). Ключевой метод экспликации – презентификация (Vergegenwärtigung): мы можем свободно воображать различные варианты (обход предмета, разный цвет задней стороны). Важный нюанс (§10): Эти вариации не предписаны, они случайны в рамках горизонта. Сама презентификация не исполняет интенцию как акт восприятия, она лишь иллюстрирует поле свободной вариативности – пространство возможностей (Spielraum). Пример из наук: В квантовой механике состояние частицы до измерения описывается волновой функцией, охватывающей спектр открытых возможностей (суперпозиция); лишь акт измерения ("исполнение") коллапсирует в одно состояние. В нейробиологии (теория "предиктивного кодирования") мозг генерирует предсказания (аналог "предвосхищения") с различной степенью неопределенности, формируя "пространство" ожидаемых сенсорных входов.
Трудность 2: "Вовлекающая возможность" и генезис сомнения. Вовлекающие возможности возникают не из неопределенности, а из конфликта интерпретаций, где каждая сторона обладает мотивационной силой ("что-то говорит за нее"). В сомнении (напр., "восковая фигура или человек?" – §11) сознание разрывается между склонностями к принятию (Glaubensneigungen). Каждая склонность – это аффективное тяготение, "требование бытия" со стороны объекта ("Verlockung zum Sein"), на которое Я может реагировать ("отзывчивость"). Феноменологический сдвиг: Когда Я актуализирует мотивацию одной стороны (напр., рассматривает детали, говорящие за "человека"), оно испытывает силу притяжения к этой интерпретации. Однако, противоположные мотивы (напр., признаки "воска") подавляют полное принятие. Динамика этого конфликта порождает проблематическое сознание и специфические акты – вовлечения к принятию (Verlockungen zum Glauben). Пример из наук: В психологии восприятия двусмысленных изображений (куб Неккера, ваза Рубина) мозг колеблется между альтернативными интерпретациями, каждая из которых временно кажется наиболее правдоподобной ("вовлекает") – аналог "веса" (§12). В правоведении оценка противоречивых свидетельств присяжными иллюстрирует борьбу "склонностей к принятию" разной силы.
Контраст (§12) – Ключевое различение:
Открытые: Равновозможны, не мотивированы позитивно ("ничто не говорит за конкретный цвет задней стороны книги"), принадлежат одному гармоничному горизонту (пространству), не требуют решения. Имплицитны, вариативны.
Вовлекающие (Проблематические): Мотивированы ("что-то говорит за"), обладают разным весом/силой, конфликтны (противостоят друг другу), требуют решения (или порождают сомнение), эксплицитны (интендированы в особенности). Они неравновозможны.
Трудность 3: Модусы достоверности и их "чистота". Гуссерль показывает, что достоверность (§13) – не монолитна. "Чистая достоверность" возникает, когда:
1. Нет конфликтующих вовлечений (как в "открытых" горизонтах: "Молот упадет!" – несмотря на открытую возможность вмешательства).
2. Противоположные мотивы полностью утратили вес в ходе опыта, став "ничтожными" (напр., после тщательной проверки сомнение исчезло).
"Нечистая (неполная) достоверность" – это предположительная достоверность (Vermutung). Она возникает, когда Я решается за одну из вовлекающих возможностей несмотря на сохраняющийся вес противоположных. Это субъективная уверенность, "подточенная изнутри" (§13). Пример: Врач ставит предварительный диагноз ("вероятно, грипп") на основе ведущих симптомов ("вовлечение"), но сознает возможность иной причины (сохраняющийся "вес" альтернатив). Это не сомнение (решение принято), но и не абсолютная уверенность. Философские связи: Аристотель ("Никомахова этика") различал знание (episteme) и мнение (doxa); Гуссерль феноменологически детализирует модусы мнения (doxa) – от сомнения до предположения. Кант ("Критика чистого разума") анализировал модальные категории (возможность, действительность, необходимость) как формы рассудка; Гуссерль исследует их как имманентные структуры переживания в интенциональном потоке.
Трудность 4: Пространства (Spielräume) и очевидность. "Пространства возможностей" – онтологический коррелят неопределенности горизонта. Гуссерль различает:
Эмпирически-примитивные достоверности: Имплицируют открытые пространства (не-бытие не исключено, но не мотивировано). Основа внешнего опыта.
Абсолютные достоверности: Исключают не-бытие и открытые противоположные возможности (напр., аподиктическая достоверность "Я есмь" или математической истины в акте ее усмотрения). Очевидность (Evidenz) – это данность вещи "самой по себе" в сознании – может относиться как к эмпирическим пространствам ("очевидно, что возможны разные цвета"), так и к аподиктическому исключению ("очевидно, что 2+2=4"). Философская связь: Декарт искал абсолютную достоверность в cogito; Гуссерль ("Картезианские размышления") принимает это, но помещает в контекст интенционального анализа и различия модусов.
Значение и выводы: Гуссерль создает тонко дифференцированную картографию доксических (связанных с верой/убежденностью) модусов сознания. Он показывает:
Эпистемологически: Знание не бинарно (знание/незнание), а градуировано модусами достоверности, возможности, сомнения, предположения, возникающими из динамики интенциональности (предвосхищение, исполнение, конфликт мотиваций).
Онтологически: "Реальность" конституируется в сознании не пассивно, а через активные модальные синтезы, где горизонты возможностей (как открытых, так и вовлекающих) играют конститутивную роль.
Методологически: Анализ презентификации как инструмента экспликации горизонтов – ключ к пониманию скрытых структур опыта. Различение "чистой" и "нечистой" достоверности критично для оценки любой претензии на знание.
Источники для углубленного изучения:
1. Первоисточники Гуссерля:
– Гуссерль Э. Идеи к чистой феноменологии и феноменологической философии. Книга I. (1913) – §103-114, §135-145: Базовые концепции интенциональности, ноэзиса/ноэмы, модификаций внимания и веры.
– Гуссерль Э. Опыт и суждение. Исследование генеалогии логики. (1939, посм.) – Часть I, гл. 2 (§§15-22): Глубокий анализ предикативного суждения из допредикативного опыта, пассивных синтезов, типов предвосхищения ("проторение пути") и модальностей. Рус. пер.: СПб.: Гуманитарная Академия, 2004.
– Гуссерль Э. Картезианские размышления (1931) – Размышление I (§§6-9), Размышление III (§38): Аподиктичность ego cogito, проблема Другого и интерсубъективности (важно для "объективности" мира). Рус. пер.: Мн.: Харвест, М.: АСТ, 2000.
– Гуссерль Э. Кризис европейских наук и трансцендентальная феноменология (1936) – Часть III, А: Жизненный мир как горизонт, кризис объективизма. Рус. пер.: СПб.: Владимир Даль, 2004.
2. Ключевые комментарии и развитие идей:
– Захави Д. Феноменологический разум (Husserl's Phenomenology, 2003) – Гл. 3-4: Превосходное введение в интенциональность, временность, тело и интерсубъективность Гуссерля, включая модальности. Рус. пер.: М.: РГГУ, 2014.
– Соколов В.В. Эдмунд Гуссерль и генезис феноменологической философии (2007) – Гл. 5: Детальный анализ теории интенциональности, ноэмы, горизонта и временности в русскоязычном контексте.
– Мерло-Понти М. Феноменология восприятия (1945) – Развивает идеи Гуссерля о телесности ("феноменальное тело") и перцептивной вере, критикуя интеллектуализм. Рус. пер.: СПб.: Ювента; Наука, 1999.
–Сартр Ж.-П. Бытие и ничто (1943) – Часть 1, Гл. 1 (§II): Анализ дорефлексивного cogito, модальностей (возможность, ничто) в экзистенциальном ключе. Рус. пер.: М.: Республика, 2000.
–Шмитц Х. Новая феноменология (Neue Phänomenologie, 1980) – Развивает феноменологию на основе "атмосфер" и телесной коммуникации, переосмысляя горизонтность.
3. Связь с когнитивными науками:
– Gallagher, S., Zahavi, D. The Phenomenological Mind (2008/2012) – Гл. 4, 6: Прямое сопоставление феноменологии (Гуссерль, Мерло-Понти) с нейронаукой, психологией восприятия, теорией сознания. Рус. пер.: Галлахер Ш., Захави Д. Феноменологический разум. М.: ЯСК, 2020.
– Varela, F.J., Thompson, E., Rosch, E. The Embodied Mind (1991) – Классика "воплощенного познания", использующая феноменологию для критики когнитивизма и построения альтернативы. Рус. пер.: Варела Ф., Томпсон Э., Рош Э. Воплощенный разум: Когнитивная наука и человеческий опыт. М.: Канон+, 2022.
– Clark, A. Surfing Uncertainty: Prediction, Action, and the Embodied Mind (2016) – Современная теория "предиктивного кодирования" в нейронауке, имеющая сильные параллели с гуссерлевским анализом предвосхищения и горизонта.
Объяснение сложных терминов контекстуально:
– Презентификация (Vergegenwärtigung): Не просто "воспоминание" или "воображение", а интенциональный акт, делающий отсутствующее квази-присутствующим для сознания здесь-и-сейчас. Ключевой метод для экспликации имплицитных горизонтов ("Что могло бы быть?").
– Ноэзис/Ноэма (Noesis/Noema): Неразрывная пара. Ноэзис – интенциональный акт сознания (напр., акт предвосхищения цвета). Ноэма – интенциональный предмет или смысл (correlatum), как он дан в этом акте (напр., "цвет задней стороны как неопределенно-общий").
–Горизонт (Horizont): Не фон, а структура предзначимости и предвосхищения, неявно сопутствующая любому актуальному переживанию (напр., восприятие фасада дома включает горизонт его невидимых сторон, интерьера, прошлого и будущего).
– Аподиктичность (Apodiktizität): Высшая степень достоверности, при которой немыслимо отрицание (напр., "Я существую в этом переживании"). Противопоставляется ассерторической достоверности (очевидность факта, напр., "этот лист зеленый") и проблематической.
–Доксические модусы (Doxische Modi): Модусы "веры" или "убежденности" (Urdoxa): достоверность, сомнение, предположение, вопрос и т.д. – фундаментальные способы, каким сознание относится к бытию интенционального объекта.
Глава 4: Пассивная и активная модализация.
§ 14. Занятие позиции Я как активный отклик на модальные модификации пассивной доксы.
Теперь перед нами встаёт двусмысленность в понятии решения, которое происходит само собой или в самой вещи, а именно: как претерпеваемое решение, которое лишь возникает, и как принимающее решение занятие позиции, осуществляемое со стороны Я в качестве его реакции. Оглядываясь на наше первоначальное введение модальностей бытия и модальностей веры, мы признаём, что всё раскрытое тогда изначально представляло собой модализацию, происходящую чисто в интенциональности восприятия, потенциально как совершенно пассивную; и во всяком случае сначала её следовало понимать именно так. Теперь ясно, что мы должны различать пассивность и активность Я:
1. Модальные модификации "пассивной доксы", пассивных интенций ожидания, пассивно налипающих на них торможений и тому подобное;
2. Ответственное занятие позиции, свойственное принятию решения, осуществляемое активно как исходящее от Я.
Далее, также ясно, что сами понятия веры и модальностей веры претерпевают модификацию с этим различением. Ибо теперь мы должны разделить по их конститутивным свершениям существенно различные процессы и события пассивности и активности. Таким образом, мы имеем:
(1) Первоначально в пассивности – синтезы конкордантности или дискордантности, ненарушенных интенций, свободно исполняющихся, или тормозимых интенций, перечёркнутых, и т.д. Соответственно, в ноэме мы имеем модусы бытия, сохраняющие тождественный объективный смысл, возможно, в связи с противоположным смыслом.
(2) Активные занятия позиции Я, активные решения, убеждения, позволение себя убедить, принятие чьей-либо стороны и т.д., и, наконец, активность убеждения в самом широком смысле (где мы уже не говорим строго о свидетельствовании за или против). Эти активности также имеют свои ноэматические корреляты. Мы должны отметить здесь, что дело не в простом выявлении пассивной интенциональности; не в простом осознании в восприятии, простом проживании соблазна, происходящем в внимательном обращении-к, то есть не в простом осознанном внимании к соблазнам, ничтожностям и подобному. Скорее, Я выносит своё суждение в собственном занятии позиции, оно решает "за" или "против" и т.д. Можно даже сказать, что здесь лежит специфический источник того, что мы обычно подразумеваем или можем подразумевать под суждением. «Убеждение» выражает большее: исходя из пассивной перцептивной ситуации, позволение себя определить так, что обретается судящая позиция, а затем и судящая определённость. Таким образом, мы также понимаем, почему на практике суждение и убеждение становятся эквивалентными выражениями. Мы скоро увидим, что это занятие позиции или эта группа происходящих здесь занятий позиции совершенно несамостоятельны с точки зрения интенциональности, а именно постольку, поскольку они предполагают события пассивной доксы. Заранее отметим, что эти занятия позиции, это удостоверение и его трансформации, далее, не следует смешивать с другими модусами поведения Я, принадлежащими сфере суждения, особенно не с активной экспликацией, коллигацией, сравнением, различением и т.п. – всеми теми операциями, которыми мы обязаны логическим формам различных положений дел. Во всех этих действиях суждение всегда есть лишь процесс придания или отрицания значимости, исходящий от Я.
Я не всегда занимает позицию в этом строгом судящем смысле. Когда оно просто воспринимает, когда оно лишь осознаёт, схватывая то, что есть и что само по себе представлено в опыте, нет мотива для занятия позиции, при условии что ничего другого не присутствует. Должны быть в игре противоположные мотивы, открытые или нет, вызывающие определённое сознание; должны быть налицо дизъюнктивные возможности в напряжении противоположностей. Суждение всегда есть решение того или иного, и, таким образом, решение-за или решение-против, активное принятие или отклонение, отвержение. Но это не должно сливаться с самими модусами бытия: с простым «бытием», с «ничто» и вновь с «не ничто», уже появляющимися в объективном смысле через простое выявление, с «всё же так», возникающим из двойного перечёркивания. Во всех этих модальностях Я само по себе не нуждается в активном занятии позиции, хотя и может быть ими мотивировано к такому занятию позиции.
Ноэтическое «Да» и «Нет», однако, возникают из специфически судящего занятия позиции. Как и для каждого модуса сознания, мы имеем ноэматический коррелят. Здесь, конечно, этот коррелят есть ноэматическое «значимо» или «незначимо», возникающее в объективном смысле; оно встречается в объективном смысле с характером будучи объявленным значимым или незначимым Я. Суждение в специфическом смысле есть, таким образом, акт полагания (posita) Я, полагания, в его возможной двойной форме: в форме соглашающегося решения Я или в форме отклонения, отвержения. Мы должны ещё рассмотреть, означает ли это, что само полагание имеет двойное «качество» в смысле традиционной логики.
Мы можем поначалу сказать по крайней мере следующее: Там, где суждение возникает в изначальной сфере мотивирующего восприятия, становятся возможными два противоположных занятия позиции, и, смотря по обстоятельствам, актуальными. Оба, однако, совершенно несамостоятельны, поскольку они имеют свою мотивацию, основанную в том, что происходит в самом восприятии, в его собственном и потенциально чисто пассивном ходе. Восприятие имеет свою собственную интенциональность, которая пока ещё не содержит ничего от активного поведения Я и его конститутивных свершений. Ибо интенциональность восприятия, скорее, предполагается для того, чтобы Я имело нечто, "за" или "против" чего оно может решать. Благодаря единству этой мотивационной ситуации, то есть благодаря его единству, возникающему из раздвоения, оба противоположных занятия позиции внутренне связаны. Например, там, где две возможности конфликтовали друг с другом, решение за одну возможность сопровождается, как коррелят, решением против коррелятивной возможности, потенциально, если не актуально.
Если мы приглядимся ближе к тому, как функционирует мотивация, затрагивающая Я, и как Я реагирует на неё активным утвердительным или отрицательным ответом, то мы должны были бы сказать следующее: Мотивационным основанием для решения как твёрдого полагания-значимым Я, или же для отрицательного решения, является, таким образом, восстановление перцептивной конкордантности. Разлад, происходящий в конфликте, в котором перцептивные аппрегензии взаимно подавляют друг друга, возвращается к ненарушенному единству.
Я аффицировано всем этим. Как Я, оно само по-своему разногласит с собой; оно разрывается и, наконец, объединяется. Оно было склонно поддержать одну аппрегензию, то есть осуществить прежде всего тенденции ожидания этой аппрегензии, позволить им стать активными ожиданиями, исходящими из центра Я. Но оно вновь находит себя заторможенным; оно влечётся к противоположным тенденциям ожидания и склоняется к противоположной аппрегензии. Если перцептивная конкордантность восстанавливается, единое восприятие в форме нормально протекающего восприятия, то внутренний конфликт Я с самим собой разрешается. Я больше не может быть поколеблено так или иначе; ибо аннулированная аппрегензия вместе со своими аннулированными интенциональными тенденциями не может быть осуществлена, и это особенно касается её ожиданий, направленных живо вперёд, но перечёркнутых. Но Я имеет в качестве своего поля деятельности не только свободный горизонт ожидания и интенциональность, которая теперь конкордантно установлена. Оно активно принимает эту позицию, присваивает конкордантно данное как бытие "simpliciter". «Активное принятие» есть то, что осуществляет своеобразное присвоение, определение, устанавливая тем самым это бытие как значимое для меня отныне и пребывающе.
Здесь проявляется важный момент, характерный для судящего принятия решения. Речь уже не идёт о презентации чего-либо, о простом выявлении интенциональности восприятия: скорее, речь идёт о присвоении, посредством которого активное, стремящееся Я присваивает себе приобретение, то есть пребывающее знание. Но оно делает это сознательным образом. Ибо то, что тем самым приписывается Я как значимое для него, обладающее характером значимости для него отныне, то есть постоянно и остающееся пребывающе значимым, – это принадлежит, как мы сказали, к сущности "объявления-чего-либо-значимым", к сущности так называемого активного принятия, которое осуществляет Я. Иными словами, оно имеет значимость, простирающуюся в открытый, эгоический временной горизонт сознательной жизни. Пожалуй, не будет преувеличением выразить это следующим образом: Когда я полагаю нечто значимым утвердительным и судящим образом, я подразумеваю под этим, что это решено для меня отныне, как установленное на будущее, и в частности, как бытие так или иначе. Если бы мы уже стояли в сфере выразительного, предикативного суждения и в сфере коммуникации, то свершение суждения было бы выражено наиболее остро фразой «Я констатирую» или также «Я утверждаю, что». Но мы должны отметить – и это принадлежит к сущности суждения – что мы не находим коммуникативного отношения уже в изначальности суждения: как правило, коммуникативное отношение представлено вместе с выражением, с утверждением.
Что же происходит теперь с противоположной аппрегензией, которая была отрицаема? Естественно, она всё ещё удерживается в ретенции; Я ранее было к ней привлечено и, возможно, уже склонялось к ней предварительным образом. Действительно, могло быть так, что именно эта аппрегензия ранее была конкордантна в форме нормального восприятия и была осуществлена Я посредством рассмотрения её как предположительно существующей вещи. Таким образом, имеются аффективные мотивы, которые также ориентируют или переориентируют взгляд в этом направлении. Но здесь Я отвечает тем, что отклоняет её, объявляет её незначимой. Последнее, очевидно, направлено либо против предыдущего объявления значимости, либо против склонности к такому объявлению, то есть оно уже направлено против занятия позиции и его конечного результата, его установления.
Но теперь становится ясно, что утвердительное или отрицательное занятие позиции не просто демонстрирует два взаимозаменяемых «качества», подобно красному и синему в сфере цветов, и что, следовательно, говорить о «качестве» здесь вообще не уместно. Отрицающий акт, осуществляемый Я, есть процесс низвержения значимости; это выражение уже указывает на вторичный интенциональный характер отрицания.
Тем не менее, здесь возникает нечто величайшей важности касательно всякого логического понятия суждения. А именно, мы охарактеризовали решение-за как взятие-во-владение, присвоение как отныне значимое, как решённое для меня отныне. Решение-против означает, что такая значимость, которая каким-то образом ожидалась от нас и, возможно, была нами ранее принята, отвергается – подобно тому как мы находим нечто аналогичное в других актах, например, когда я отвергаю решение, потому что мотивационная ситуация изменилась, или когда я сопротивляюсь волевому влечению.



