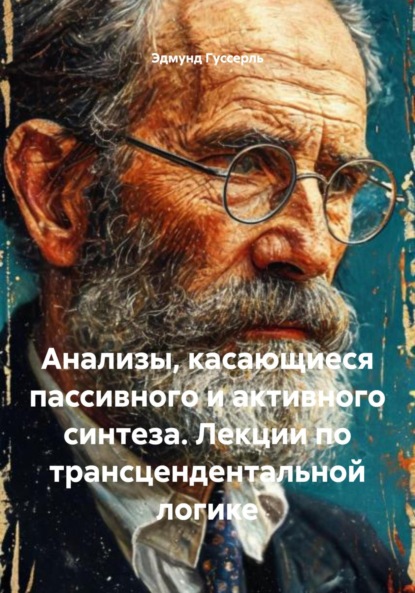
Полная версия:
Анализы, касающиеся пассивного и активного синтеза. Лекции по трансцендентальной логике
Но «незначимому», которое я могу вновь сделать значимым лёгким изменением установки, соответствует отрицание как решение-против; то есть, судя утвердительно, я могу его установить. «Нет» или «ничто» тогда входит в содержание установленного. Соответственно, можно также взять понятие суждения таким образом, что оно имеет дело исключительно с активностью установления бытия и что оно охватывает ничтожность как момент содержания, так сказать, как существующее не-бытие. Фактически, логика и наука сводят всё к устанавливающим [что-либо] суждениям, и с хорошим основанием. Сколько бы ни было возможности отрицать, в теоретических высказываниях нет ничего от отрицания; скорее, в одно время они устанавливают, что нечто так, в другое – что оно не так. Соответственно, суждение, знающее лишь одно «качество» – установление чего-либо значимым, – есть наше привилегированное понятие суждения. Естественно, это не меняет того факта, что само принятие решения не имеет единой модальности, но развёртывается в противоположных модальностях: даже если познавательный интерес, которому служит логика, заинтересован исключительно в установлении [чего-либо], в высказывании утверждений, и даже если всякое отклоняющее отрицание в конечном счёте мыслится как редуцированное к полаганию негативного, а затем, возможно, ещё дальше к полаганиям с исключительно позитивным содержанием.
Всё же эти соображения нуждаются в значительном дополнении. Твёрдое активное принятие и решительное отвержение – не единственные модальности занятия позиции в вере, которые осуществляет Я. Скорее, ясно, что субъективно-активное поведение Я – именно то, что мы характеризуем в подлинном смысле термином «сомнение» или выражением «я сомневаюсь, так ли это или иначе» – также соответствует тому, что мы назвали уже в самом восприятии и в его пассивном течении расщеплённым восприятием, «восприятием, модализованным как сомнительное восприятие». Действительно, я уже упоминал ранее, что само Я может быть в разногласии с собой, хотя это происходит на мотивационной почве того расщепления, проходящего через интенциональность восприятия. Теперь я в разногласии с собой, я разрываем, насколько я склонен верить то в одно, то в другое. Это склонение-к означает вообще, и в активном сомнении специфически, больше, чем просто аффективное притяжение соблазнительных возможностей. Они соблазняют меня как бытие, что означает вообще, что я следую за одной, а затем за другой уже в модусе решения-за; я придаю ей нечто от значимости, хотя, конечно, [значимость придаётся] таким образом, что [она] может вновь и вновь тормозиться.
Это «следование за» со стороны Я мотивировано весом самих возможностей. Судящая тенденция, которой я активно следую на протяжении какого-то отрезка, исходит из этих возможностей как соблазнительных. Это означает, что я осуществляю нечто вроде мгновенного решения в её пользу. Но я остановлен на своём пути противоположными возможностями, предъявляющими аффективное требование ко мне. И это тоже хочет быть услышанным, так сказать, и склоняет меня к вере. Торможение здесь не есть просто лишённость, но модус феномена заторможенного решения, именно решения, арестованного на пути. Я действительно следую на каком-то отрезке в осуществлении решения, так сказать, только не дохожу до твёрдого решения веры. Подобным же образом в таких мотивационных ситуациях решения со стороны Я, решения, которые отклоняют другие возможности и идут против них, являются тогда заторможенными отрицательными решениями.
Сюда особенно принадлежал бы феномен принятия стороны возможности и внутреннего закрытия для других. В этом случае уже происходит подлинное решение, субъективная достоверность и установление, утверждение; но это нечистое решение, так сказать, подточенное, решение, принятое не с доброй логической совестью; это не так, как в случае, когда мотивация именно для этого твёрдого решения исходит из самой вещи как конкордантно конституированного опыта.
Сюда же принадлежит феномен предположения, принятия-за-вероятное. Если я рассматриваю возможности, имеющие различный вес, то наибольший вес, возможно, мотивирует меня принять решение за неё, он мотивирует своего рода привилегированное активное принятие, которое, однако, не означает поэтому установления её или утвердительного высказывания её как бытия "simpliciter". Конечно, когда одна возможность имеет подавляющий вес, или когда то, что продолжает говорить в её пользу со стороны вещи, обретает подавляющий вес из субъективных мотивов, я могу перейти ещё дальше к достоверности, хотя и к нечистому убеждению. Но тогда уже не говорят о «предполагании» или «принятии за вероятное». Отрицательным коррелятом этому является, естественно, принятие-за-невероятное, которым выражается своего рода отвержение, но не прямое отрицание.
§ 15. Вопрошание как многослойное стремление к преодолению модализации через судящее решение.
Что же происходит, наконец, с вопрошанием, вопрошанием, которое так неразрывно переплетено с сомнением? Принадлежит ли оно также, подобно сомнению, к рангу этих судящих модальностей? В пассивной сфере и, в частности, в интуиции, расщеплённой в интенциональном конфликте, дизъюнктура соответствует одновременно процессам сомнения и вопрошания, которые могут здесь мотивироваться. В и через их соперничество А, В и С аппрегенируются и объединяются в единстве конфликта. Мы можем выразить это не иначе, как сказав: Мы сознаём, что «либо А, либо В, либо С есть»; и мы находим именно это в выражении активного вопроса и активного сомнения, а именно, как содержание вопроса или содержание сомнения. То есть: я вопрошаю, я сомневаюсь, А ли это и т.д.
Выражаясь нашим прежним образом речи: Единое поле проблематических возможностей в пассивной сфере предшествует вопрошанию и сомнению. Естественно, их по крайней мере две. Но здесь также может быть случай, когда лишь одна из этих оспаривающих возможностей выходит сознательно на передний план, или, как мы также сказали, становится выявленной; между тем другие остаются незамеченными на заднем плане в модусе пустых презентаций, которые не осуществляются тематически. Всякий эгоический акт имеет свою тему, которая может быть единичной темой или единым многообразием тематических единичностей, которые затем составляют в своём единстве всю тему. Очевидно, либо темой вопроса (подобно сомнению) является проблематическая единичность, дизъюнктивные противоположные члены которой остаются тогда унитематическими (как когда я просто спрашиваю: Восковая ли это фигура?), либо это вся проблематическая дизъюнкция (как в вопросе: Восковая ли это фигура или человек?).
Что же теперь характерно для вопрошания как активности, явно свойственной Я? Пассивное дизъюнктивное напряжение проблематических возможностей (сомнения в пассивном смысле) мотивирует активное сомнение, модус поведения, который смещает Я в акт-раскол. Это по существу и непосредственно подразумевает беспокойство и изначальное стремление выйти за его пределы, вернуться к нормальному состоянию единодушия. Возникает стремление к твёрдому решению, то есть в конечном счёте ненарушенному и чистому. Вопрошание уже порождает это стремление. Часто случается, что установленная конкордантность и через неё внутреннее единство Я с собой, к которому стремились, могут быть вновь утрачены. Этот повторяющийся опыт может спровоцировать дальнейшую мотивацию, а именно, он может пробудить стремление преодолеть это возобновлённое беспокойное неустойчивое состояние. В отличие от других случаев, здесь дело не ограничивается стремлением к судящему решению и к присвоению и установлению вынесенного суждения; скорее, стремление направлено к окончательному, надёжному суждению, то есть к такому суждению, которое Я может обоснованно фундировать и относительно которого Я может быть субъективно уверено, что не впадёт вновь в затруднительные модализации. Это многослойное стремление выражается в следующих двух видах вопрошания.
(1) Прямое вопрошание вообще есть процесс стремления, исходящего из модальной модификации (или, если угодно, возникающего из раскола и торможения), чтобы прийти к твёрдому судящему решению. Вопрошание имеет свой интенциональный коррелят в вопросе, подобно тому как суждение имеет свой коррелят в суждении. Возможно, будет яснее, если я скажу, что эгоический "акт" суждения как процесс вынесения суждения следует, естественно, отличать от самого суждения, вынесенного в суждении. В языковой сфере высказыванию как высказанному соответствует высказывание; написанное есть там как пропозиция, вербально выраженное есть там как утверждённое, как установленное. Подобным же образом, мы имеем высказанный вопрос в противоположность активности вопрошания.
Собственный смысл вопрошания проявляется в и через процесс ответа или в ответе. Ибо с ответом наступает снимающее напряжение исполнение стремления; наступает удовлетворение. Различным возможным ответам соответствуют [1] различные модусы и уровни, на которых может происходить удовлетворение, как относительное и всё же уже как удовлетворение, или как полное и окончательное, и [2] различные направления, в которых может идти вопрошающая интенция. Например: Есть ли А? Ответ гласит: Да, А есть! Или: нет, А нет. Таким образом, он имеет оба твёрдых модуса суждения как возможные ответы.
Поскольку вопрошающее усилие исполняется, отвечается в соответствующих суждениях, ясно, что переживание форм суждения, форм суждения, которые параллельным образом подходят к смысловому содержанию вопросов, подразумевает, что вопрошающий уже сознательно антиципирует эти возможные формы ответа и что они уже встречаются в артикуляции самих вопросов как содержания вопроса. Всякое возможное суждение мыслимо как содержание вопроса; естественно, оно в вопросе ещё не есть актуальное суждение, но проспективное суждение, лишь интендируемое (нейтральное) суждение, которое как содержание вопроса указывает на Да и Нет.
Даже сомнение в развитом сознании есть сомневающееся поведение, торможение и раздвоенность при занятии позиции относительно проспективных, возможных суждений.
Если вопрос имеет несколько компонентов и поставлен как полная дизъюнкция, то он может читаться, например: Есть ли А или есть ли В? Таким образом, он дизъюнктивно показывает соответствующие проспективные суждения. Когда вопрос имеет два компонента, он также может читаться здесь: Не есть ли А или есть ли В? и т.д. Ответы оказываются соответственно; они направлены на проспективные, возможные суждения как содержания вопроса, которые принимаются во внимание согласно членам дизъюнкции. Не Рим ли победил, или Карфаген? Да, Рим победил, но не Карфаген.
Однако, всё ещё существуют другие параллельные ответы постольку, поскольку ответ есть решение, утвердительное или отрицательное, но не всякое решение должно иметь модус твёрдой достоверности. Даже принятие-за-вероятное есть занятие позиции, принимающее решение, хотя оно и не может быть удовлетворяющим окончательным образом. Однако, в некотором смысле оно уже разрешает нерешительность, поскольку Я, принимая за вероятное, поддержало одну возможность верой. Фактически, мы можем также ответить на вопрос «Есть ли А?» словами: «Да, вероятно» или «Нет, маловероятно».
Как мы могли ожидать, далее возможны ещё более смягчённые ответы. Это имеет место постольку, поскольку каждый модус суждения, который всё ещё имеет в себе нечто от решения, и соответственно, каждая форма решения, которая арестована, также может служить ответом. Например: А или В? Ответ: «Я склонен верить, что А есть». Конечно, этому обычно предшествует: «Я не знаю» или «Я не решил», «Я не уверен». Это показывает, что практическая интенция вопрошания фактически направлена к «знанию», к решению в особом смысле, к суждению в строгом смысле. Но тем не менее это ответ, пусть и неполностью удовлетворяющий. С другой стороны, это вовсе не был бы ответ, если бы мы сказали, например: А увлекательно. Итак, ответ в подлинном смысле этого слова есть судящее решение, взятое очень широко. Позвольте мне взять это утверждение назад. Ибо в определённом смысле сказать «Я не знаю» или даже «Я не уверен» – тоже есть ответ на вопрос. Это, очевидно, касается коммуникативного взаимодействия, в котором я лишь информирую другого своим ответом, что не могу исполнить его пожелание, что у меня вовсе нет ответа на его вопрос. И фактически в таких случаях можно также ответить фразой: «У меня нет ответа».
Всё же наши предшествующие анализы ещё не заняли эксплицитно позиции относительно того, в какой мере сами вопросы принадлежат к модальностям суждения. Следуя нашим анализам, это не требует длинного изложения. Конечно, вопрошание принадлежит сфере суждения и знания, более того, принадлежит им неразрывно; и оно принадлежит неразрывно и необходимо логике как науке о познающем и познанном, точнее, как науке о познающем разуме и его образованиях. Но оно делает это лишь потому, что судящая жизнь, даже рациональная судящая жизнь, есть среда для своеобразного желания, стремления, воления, действования, целями которых как раз являются суждения, и суждения особой формы. Всякий разум есть одновременно практический разум, и это также справедливо для логического разума. Конечно, нам ещё придётся различать оценивание, желание, воление, действование (которые направлены через суждение к суждениям и истинам), от самого суждения (которое само по себе не есть оценивание, желание, воление). То есть, вопрошание есть модус поведения, который практически соотнесён с суждением. Я нахожу себя неприятно фрустрированным, когда ставлю вопрос и не достигаю решения; это может также фрустрировать меня в других решениях, относящихся к моей практической жизни. Соответственно, я желаю решения.
Однако, вопрошание не есть лишь статическое состояние желания, но направленность, стремящаяся к судящему решению, уже принадлежащая сфере воления. Только позднее, когда мы видим практические пути фактического осуществления судящего решения, оно становится решительным волением и действованием. Конечно, нормальное понятие вопроса есть интеррогация, направленная к другому лицу, и возможно, к самому себе в обращении назад к себе, интеррогация, исходящая от меня ко мне. Здесь коммуникация с другими не входит в сферу наших размышлений, так же как и предикативные вопросы в их отношении к предикативным суждениям. Но мы можем также оставить без рассмотрения обращение-к-себе, делающее самого себя терминусом коммуникации, подобно тому как другие делаются терминусом коммуникации (ибо Я действительно может взаимодействовать с самим собой). Таким образом, примитивное вопрошание есть практическое стремление к судящему решению и далее привычная практическая установка, которая может быть, возможно, эффективной долгое время, всегда находясь на грани перехода к соответствующим волевым актам, усилиям, действиям, опробованию методов решения проблем и т.д.
(2) Уже имплицитно дав анализ вопрошания в только что сказанном выше, который мы не в состоянии здесь далее проводить, мы должны теперь рассмотреть упомянутые уровни вопрошания. Во-первых, очевидно, что вопрошание может найти свой твёрдый ответ через твёрдое утверждение, с которым мы, казалось бы, достигаем окончательной позиции, и что затем, несмотря на это, мы можем возобновить вопрошание. Например, мы спрашиваем: «Верно ли А?» Ответ гласит: «Да, А верно». Но мы спрашиваем вновь: «Действительно ли А верно?» И мы делаем это без всякого сомнения. Это может происходить в нашей перцептивной сфере и может быть прояснено следующим образом: Восприятие, разногласное с собой, перешло к конкордантному восприятию, содержащему решение; оно перешло к конкордантному восприятию согласно смыслу одной из аппрегензий. Но всё же всегда остаётся открытая возможность, что дальнейший ход восприятия не подтвердит аффилированных антиципаций и тем самым значимости смысла аппрегензии. Может, таким образом, возникнуть потребность обезопасить её далее и обосновать перцептивное суждение, подтвердить и укрепить его. Это может происходить через приближение, свободное приведение восприятия в действие согласно предначертанным возможностям, чтобы осуществить их и увидеть затем, действительно ли это истинно. Соответственно, новый вопрос есть вопрос, пронизывающий открытые возможности горизонта и относящий обосновывающий вопрос, т.е. вопрос, направленный к актуальному, истинному бытию, к антиципирующим интенциям. Через подтверждение, затем, то, что уже суждено как существующее, наделяется новым характером, «истинно и действительно так», так что мы могли бы также охарактеризовать этот вопрос как вопрос об истине и действительности. Естественно, взаимодействие может здесь повторяться, действительно актуальное и истинное не являются окончательно определёнными, поскольку могут открываться новые горизонты. Представленного нами здесь достаточно, чтобы выявить различие между прямым вопрошанием и вопрошанием об обосновании или истине, которые присоединяются как высшие уровни к прямому вопрошанию.
Исследования наших предыдущих лекций представили часть феноменологии судящих актов в высшем смысле, хотя наши необходимые анализы низших уровней ещё не были доведены до завершения. Это было обусловлено тем, что фундаментальная теория суждения изначально ведёт к доксе и доксическим модальностям, принадлежащим пассивности самой интуиции. Здесь было совершенно необходимо раскрыть немедленно её контраст с высшим уровнем суждения, происходящего как специфически эгоическое принятие решений. Иначе сформировалось бы воззрение, что теория перцептивной веры и подобно ей модусы суждения, встречающиеся в пассивной интуиции всякого иного рода, уже составляли бы полную теорию суждения. Но важно удерживать это в виду с самого начала, и не как пустую общность: что познающая жизнь, жизнь логоса, действительно подобно жизни вообще протекает в фундаментальной стратификации.
(1) Пассивность и рецептивность. Мы можем включить рецептивность в этот первый уровень, а именно, как ту изначальную функцию активного Я, которая состоит лишь в выявлении, усмотрении и внимательном схватывании того, что конституировано в самой пассивности как образования её собственной интенциональности.
(2) Та спонтанная активность Я (активность "intellectus agens"), которая вводит в игру своеобразные свершения Я, как это имело место с судящими решениями.
Аналитический обзор: Пассивная и активная модализация у Гуссерля (§14-15).
В центре анализа Эдмунда Гуссерля (§14) лежит фундаментальное различение пассивных и активных процессов сознания, конституирующих наше отношение к миру и знанию. Пассивная докса (δόξα – мнение, вера) представляет собой дорефлексивный, "догматический" слой опыта, где модальности бытия (бытие, сомнение, возможность, ничтожность) возникают спонтанно в интенциональной жизни восприятия без вмешательства "Я". Это сфера "само-происходящих" синтезов: конкордантности (гармоничное исполнение интенций, напр., устойчивый образ объекта при его осмотре), дискордантности (конфликт, напр., видимость воды в пустыне – мираж, противоречащий другим ожиданиям), торможения (блокировка интенции, напр., ожидание звука шагов, которое не исполняется) и перечеркивания (аннулирование прежнего полагания, напр., "оказалось, это не змея, а ветка"). Эти процессы происходят в "фоне", предшествуя рефлексии. Их ноэматические корреляты – это модусы данности объекта: "действительно есть", "сомнительно", "возможно", "не есть".
Главная трудность здесь – "двусмысленность решения". Гуссерль подчеркивает, что "решение" может пониматься двояко: 1) как "пассивное событие" в потоке сознания (разрешение конфликта аппрегензий, восстановление конкордантности – "вдруг стало ясно"), и 2) как "активный акт "Я – "занятие позиции" (Position-Taking). Именно активное занятие позиции составляет суть собственно суждения в строгом смысле. Это реакция "Я" на модальные модификации пассивной доксы. Активное суждение – это не просто осознание пассивно данного (например, констатация "я вижу что-то сомнительное"), а акт присвоения (Aneignung) и установления (Feststellung) значимости. "Я" решает "за" или "против" определенного полагания бытия, вынося вердикт: "Да, это так!" (Утверждение) или "Нет, это не так!" (Отрицание). Убеждение (Überzeugung) возникает именно здесь – как результат активного принятия значимости, простирающейся во временной горизонт ("отныне и впредь для меня установлено"). "Пример из науки:" Пассивно ученый воспринимает аномалию в данных (дискордантность). Активно он занимает позицию: выдвигает гипотезу ("Да, возможно, это новая частица" – активное принятие возможности) или отвергает ошибку ("Нет, это артефакт измерения" – активное отрицание).
Ключевое отличие активного от пассивного: Активное "занятие позиции" предполагает мотивацию из пассивной сферы (конфликт, неопределенность) и не сводится к другим активностям "Я" (экспликации, сравнению, различению, формированию логических связей – §14). Суждение – это акт "придания/отрицания значимости", а не операция с содержанием. "Сложный момент:" Негация (отрицание) – не просто симметричная "качественная" противоположность утверждению (как синий красному). Это вторичный акт "низвержения" ("Niederschlagen") ранее установленной или намечавшейся значимости. Гуссерль отмечает парадокс: логика оперирует "утвердительными" суждениями даже об отрицательном ("S есть не-P"), редуцируя отрицание к позитивному содержанию. Однако феноменологически акт отрицания уникален и несводим.
В §15 Гуссерль фокусируется на вопрошании (Fragen) как специфической активной модальности, тесно связанной с сомнением и мотивированной пассивной проблематичностью (дизъюнктивным полем конфликтующих возможностей в восприятии, напр., "Это человек или манекен?"). Вопрошание – это многослойное практическое стремление "Я" преодолеть неопределенность и достичь "субъективно гарантированного" решения (убеждения). Оно:
1. Мотивировано пассивным напряжением (дискордантностью).
2. Является активным ответом "Я" на это напряжение (стремление к единству).
3. Направлено на суждение как цель (ответ "Да" или "Нет" снимает напряжение).
4. Может быть многоуровневым: Простое вопрошание ("А ли это?") стремится к "любому" решению; вопрошание обоснования/истины ("Действительно ли А истинно?") стремится к "окончательному, аподиктически достоверному" решению, проверяя исполнение горизонтных интенций ("Пример:" Ученый не только спрашивает "Подтверждаются ли данные гипотезе H?", но и "Достаточно ли оснований, чтобы считать H "истинной"?", требуя воспроизводимости, проверки альтернатив).
Трудные моменты и разъяснения:
1. Докса (Doxa): Не в негативном смысле "ложного мнения" (Платон), а как фундаментальная "дотеоретическая вера" в бытие мира, лежащая в основе любого опыта. Это гуссерлевская разработка "естественной установки" ("Ideen I"). Пассивные модализации доксы – это колебания этой веры на досознательном уровне.
2. Ноэзис/Ноэма (Noesis/Noema): Ключевая пара понятий феноменологии. Ноэзис – интенциональный "акт" сознания (воспринимание, суждение, сомнение). Ноэма – интенциональный "предмет" (или "смысл" предмета) "как данный" в этом акте. Пассивной конкордантности соответствует ноэма "бытие", активному утверждению – ноэма "значимо/утверждено Я".
3. "Присвоение" (Aneignung): Активное суждение не просто регистрирует данное, а "делает его своим устойчивым достоянием знания". Это превращает преходящее перцептивное "очевидное" в "пребывающее убеждение", включенное в горизонт будущего опыта. Связь с темпоральностью сознания здесь фундаментальна.
4. Сомнение (Zweifel): Гуссерль различает "пассивное" сомнение (как модальность доксы – "восприятие дано сомнительно") и "активное" сомнение как "поведение "Я ("Я сомневаюсь, А ли это"), которое есть заторможенное, незавершенное занятие позиции, колебание между возможностями.
5. Вторичность Отрицания: Утверждение первично устанавливает бытие/значимость. Отрицание – это реакция на "уже имеющуюся" (актуальную или потенциальную) претензию на значимость. Оно вторично по интенциональной структуре (ср. с "приоритетом позитивного" в онтологии Хайдеггера).
6. Вопрошание как Практический Акт: Гуссерль подчеркивает, что вопрошание принадлежит сфере "воления и стремления", а не чистого познания. Оно движимо "неудовлетворенностью" неопределенностью и "желанием" решения ("разум есть одновременно практический разум"). Это сближает логику с прагматикой (хотя Гуссерль сам избегал прагматических выводов).
Философские параллели и источники:
– Кант: Различение рецептивности (чувственность) и спонтанности (рассудок) в Критике чистого разума. Гуссерль радикализирует это, показывая сложную пассивную динамику "внутри" "рецептивности" и специфицируя активность суждения как занятие позиции. Кантовский синтез апперцепции находит аналог в активном "присвоении" значимости.
– Брентано: Учение об интенциональности как отличительном признаке психических феноменов (Психология с эмпирической точки зрения). Гуссерль развивает это в детальную феноменологию интенциональных актов и их коррелятов (ноэзис/ноэма).



