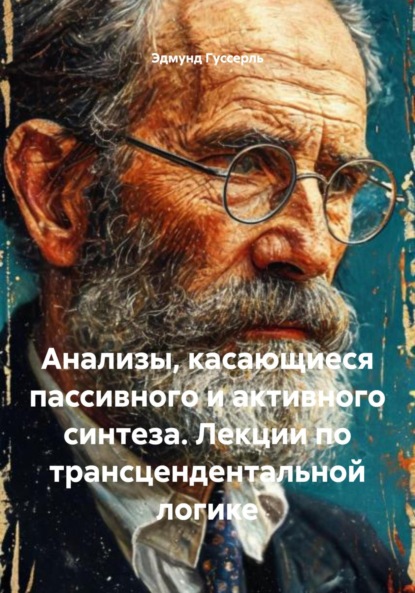
Полная версия:
Анализы, касающиеся пассивного и активного синтеза. Лекции по трансцендентальной логике
– Мерло-Понти: Развил гуссерлевские идеи пассивного синтеза и "доксы" в концепции "телесной схемы" и "договорного" характера восприятия (Феноменология восприятия). Тело как место пассивных синтезов.
– Аналитическая философия: Идея "пропозициональных установок" (Б. Рассел, Дж. Серль) перекликается с гуссерлевскими модальностями веры, сомнения, вопроса как способов данности суждения. Анализ вопрошания у Гуссерля предвосхищает прагматические теории вопросов (напр., в теории речевых актов).
Источники для углубленного изучения:
1. Основные труды Гуссерля:
– "Логические исследования" (1900/1901, особенно V и VI Исследование): Фундамент теории интенциональности, различение акта и содержания, критика психологизма, начало анализа суждения.
– "Идеи к чистой феноменологии и феноменологической философии. Книга I" (1913): Разработка понятий ноэзиса/ноэмы, естественной установки, доксы, пассивного синтеза (§§ 103-116 особенно важны для пассивности).
– "Опыт и суждение. Исследования по генеалогии логики" (1939, посмертно): "Ключевой текст" для понимания пассивных основ логики и активного суждения. Генезис предикативного суждения из допредикативного опыта. Детальный анализ пассивности, ассоциации, типизации, модализаций, занятия позиции. Наиболее прямое развитие идей §14-15.
– "Картезианские размышления" (1931): Сжатое изложение трансцендентальной феноменологии, роль Ego.
– "Кризис европейских наук…" (1936): Поздний анализ жизненного мира (Lebenswelt) как горизонта всякой доксы.
2. Вторичная литература:
– Zahavi, D. "Husserl's Phenomenology" (2003): Отличное введение, ясное объяснение ключевых концепций, включая интенциональность, ноэзис/ноэма, пассивность/активность.
– Sokolowski, R. "Husserlian Meditations: How Words Present Things" (1974): Классический анализ языка и суждения у Гуссерля, связь с феноменологией восприятия.
– Lohmar, D. "Erfahrung und kategoriales Denken. Hume, Kant und Husserl über vorprädikative Erfahrung und prädikative Erkenntnis" (1998): Глубокое исследование допредикативных основ познания и суждения у Гуссерля в сравнении с Юмом и Кантом.
– Bernet, R., Kern, I., Marbach, E. "An Introduction to Husserlian Phenomenology" (1993): Комплексное введение, хорошие разделы по интенциональности и временности.
– Mohanty, J. N. "Husserl's Theory of Meaning" (1964) и "The Concept of Intentionality" (1972): Фундаментальные работы по интенциональности и смыслу.
– Cobb-Stevens, R. "Husserl and Analytic Philosophy" (1990): Для понимания связей с аналитической традицией, особенно по проблемам суждения и значения.
– Steinbock, A. J. "Home and Beyond: Generative Phenomenology after Husserl" (1995): Рассматривает развитие идей пассивности и генетической феноменологии после Гуссерля.
Этот обзор раскрывает гуссерлевский проект обоснования логики и познания в феноменологии сознания, показывая, как высшие акты разума (суждение, вопрос) укоренены в низших пассивных синтезах восприятия и как активное "Я" откликается на вызовы, брошенные самой материей опыта, занимая позиции и устанавливая значимость, формируя тем самым мир нашего знания и убеждений.
Раздел 2: Очевидность (Evidence). Глава 1: Структура исполнения (Fulfillment).
§16. Исполнение: Синтезы пустой презентации и соответствующей интуиции.
Особо следуя нашему интересу к прояснению познания, то есть сосредоточиваясь преимущественно на функции познания внутри чистой субъективности, мы до нашего перерыва приобрели упорядоченный ряд систематических инсайтов. В конце [лекции] мы занимались рудиментами, самыми базовыми элементами теории суждения. Предпринимая систематическое исследование восприятий, мы обнаружили модус верования (belief), пассивной доксы (doxa), и обратили внимание на модализации верования. Естественно, продемонстрированное здесь mutatis mutandis отражается в каждом модусе интуиции и, соответственно, в воспоминании, которое само по себе характеризуется как как бы повторное-восприятие. Затем мы противопоставили этим доксическим событиям, происходящим в пассивной сфере, функции высших сужденческих активностей, которые в них фундированы. Благодаря этому мы обрели первоначальное, конкретное понимание противоположности между, с одной стороны, пассивным и опытным осуществлением (accomplishment) и, с другой стороны, спонтанным осуществлением мышления, осуществлением Эго, которое в строгом смысле выносит суждения, принимает решения и активно присваивает и утверждает свое познавательное приобретение.
Мы теперь обратимся к изучению особых характеристик и осуществлений сферы суждения, имеющих особую важность для логики, – характеристик и осуществлений, которые мы уже встречаем в сфере пассивности или простой рецептивности. Я имею в виду функции исполняющего подтверждения/подтверждения (fulfilling confirmation/corroboration). Это особые синтетические функции, которые мы встречали гораздо раньше, но тогда были не в состоянии достаточно прояснить их отношение к другим синтезам. Проводя наш анализ восприятия, мы должны были указать на его синтетический характер как на нечто фундаментальное. Восприятие есть процесс течения от фазы к фазе; каждая из фаз сама по себе есть восприятие, но эти фазы непрерывно гармонизируются в единстве синтеза, в единстве сознания одного и того же воспринимаемого объекта, который здесь изначально конституируется. В каждой фазе мы имеем первоначальное впечатление (primordial impression), ретенцию (retention) и протенцию (protention), и единство возникает в этом продвижении благодаря тому, что протенция каждой фазы исполняется через первоначальное впечатление непрерывно смежной с ней фазы. Рассматриваемое конкретно, как процесс, перцептивное переживание (lived-experience) непрерывно исполняется, и именно поэтому оно есть единство непрерывной конкордантности (concordance). Когда эта конкордантность нарушается, что вполне возможно, происходит модализация, и у нас больше нет восприятия в нормальном смысле, то есть мы больше не являемся непрерывно сознающими единый воспринимаемый объект как нечто, существующее в прямолинейной манере.
Мы также говорим об исполнении в других отношениях внутри сферы простых презентаций, к которой мы теперь себя ограничиваем, внутри простой рецептивности. Итак, относительно всех ожиданий, возникающих как особые презентации в презентирующей жизни. Мы ожидаем, что что-то произойдет – и вот сама эта вещь происходит, подтверждая ожидание в самом изначальном подтверждении ратифицирующего восприятия. Нас интересует такое изначальное подтверждение, в котором презентирующая интенция исполняется в синтезе интендированного объекта и самого соответствующего объекта; мы также можем сказать, что мы предпринимаем первоначальное изучение природы очевидности (evidence). Сделать презентацию для нас очевидной – значит привести ее к изначально исполняющему подтверждению. Таким образом, речь идет не о произвольном синтезе идентификации; скорее, это касается синтеза несамоданной (not self-giving) презентации с самоданной (self-giving) презентацией.
Естественно, мы берем за основу этих презентаций сначала модус достоверности и позициональности (positionality). С самого начала мы видим, что важное различие между пустыми и полными, или интуитивными, презентациями – различие, с которым мы знакомы, – особенно становится проблемой для синтезов подтверждения. Конечно, мы знаем, что даже восприятие, в частности, внешнее, трансцендентное восприятие, может происходить в синтезах исполнения – и не только как восприятие, подтверждающее интенцию; скорее, оно может происходить даже как простая интенция, которая исполняется в новых восприятиях. Это происходит, например, когда мы воспринимаем дерево спереди и, желая узнать его лучше, приближаемся к нему и теперь воспринимаем его в новых восприятиях; определяя дерево ближе, мы также имеем исполняющее подтверждение. Между тем, каждое внешнее восприятие содержит свои внутренние и внешние горизонты, независимо от того, в какой степени восприятие имеет характер самоданности; это значит, что оно есть сознание, одновременно указывающее за пределы собственного содержания. В своей полноте оно одновременно указывает в пустоту, которая только теперь передала бы новое восприятие. Самоданность пространственной вещи есть самоданность перспективно являющегося объекта, данного как тот же самый в исполняющем синтезе переплетающихся и переходящих друг в друга явлений. Но это тот же самый объект, который сам является то так, то иначе, являясь в других перспективах, всегда указывая от перспективы к все новым перспективам, в которых один и тот же выставляемый объект непрерывно определяется ближе и все же никогда не определяется окончательно. Ибо мы всегда ожидаем явлений вновь открываемых, пустых горизонтов. Таким образом, где нет горизонта, где нет пустых интенций, там нет и [синтеза] исполнения. Данное (Datum), данное в имманентном восприятии, то есть адекватно данное в каждом Теперь (Now), не допускает поэтому никакого дальнейшего подтверждения относительно этого Теперь. Тем не менее, оно все же происходит как исполнение, поскольку предшествующая перцептивная фаза уже указывает на грядущее. Это исполнение есть исполнение антиципации (anticipation) и является окончательным, абсолютным исполнением, или очевидностью.
Соответственно, теперь может показаться, что единство синтеза исполнения (подтверждающего) характеризовалось бы тем, что пустое сознание (будь то сознание, полностью пустое само по себе, или сознание, неполно насыщенное интуицией) синтетически объединялось бы с соответствующей интуицией, благодаря чему пусто интендированное и интуируемое совпадают в сознании того же самого [объекта], то есть совпадают в идентичности объективного смысла. Однако хотелось бы думать, что исполнение, несомненно, есть приведение к интуиции: подтверждение интендирования, то есть означивания (meaning) объекта, но не обладания самим объектом интуитивно, или обладания им интуитивно, но все же означивания сверх уже интуитивно данного, и теперь перехода к интуиции еще не данного. Но мы увидим, что эта характеристика не сработает, ибо не каждый процесс приведения к интуиции, то есть не каждое исполнение, является подтверждающим.
Фундаментально важно различать возможные здесь синтезы, относящиеся к интуициям и пустым презентациям, и характеризовать их более подробно. Возможные синтезы определяются по своему феноменологическому характеру типами фундирующих их интуиций и пустых презентаций. Обратно, можно впервые осознать различные виды фундирующих презентаций в различных операциях тесно связанных презентаций внутри синтеза и в различном характере, который синтез принимает в этих случаях. Без различения различных возможных синтезов можно легко упустить различия внутри интуиций и внутри пустых презентаций, которые здесь могут возникать.
§17. Описание возможных типов интуиции.
Проследим этот вопрос глубже, отправляясь сначала от общего различия между интуитивной презентацией и пустой презентацией. Интуитивная презентация, со своей стороны, имеет различные модусы. Восприятие есть изначальный модус интуитивности (как всегда, понимаемый как доксическая позициональность). Ему противопоставляется модус презентификации (presentification), который при ближайшем рассмотрении также имеет различные формы. Изучая интуитивное воспоминание, мы узнали, что воспоминание само по себе проявляется как презентификация восприятия, то есть что оно структурировано не так просто, как восприятие. Это актуальное переживание (lived-experience), которое само не есть восприятие: вместо этого оно презентифицирует восприятие во временном модусе прошлого восприятия и именно тем самым презентифицирует свой прежний перцептивный объект как бывшее. Любой другой вид презентификации имеет схожую структуру. Таким образом, существуют интуитивные презентации настоящего, которые, конечно, не являются восприятиями этого настоящего, но суть его презентификации: например, когда мы делаем интуитивно присутствующей оборотную сторону вещи, более или менее знакомой из предыдущего восприятия, или когда мы делаем интуитивно присутствующим со-присутствие других вещей, как когда мы интуитивно презентифицируем Фонтан Бертольда. Здесь мы не просто презентируем его как вчера увиденный фонтан в его простой прошлости, но презентируем его как сейчас и как актуальный, подобно интуициям, которые мы имеем здесь и сейчас внешних входов и вестибюля и т.д. Конечно, память о прошлом играет здесь свою роль – действительно, вестибюль изначально появляется в текущей интуиции как воспоминание – но прошлое простирается неизменным в будущее в модусе объекта для сознания. Это будущее исходит из репродуцированного прошлого и делает это таким образом, что это будущее одновременно является со-присутствующим относительно нашего текущего перцептивного настоя, к которому принадлежат эти вещи здесь в нашем текущем перцептивном поле.
Более того, у нас также есть интуитивные презентификации грядущего из будущего, то есть интуитивные ожидания. Собственное последующему, тому, что произойдет завтра, будущностное как бытие-в-антиципации или ожидаемое нами есть то, что мы предвидим (fore-see) как будущностную длительность, например, длительностный характер этой лекционной аудитории, университета, улицы, города и т.д. Соответственно, мы имеем сознание чего-то будущностного в интуитивной презентации. Очевидно, ожидания не всегда таковы, лишь непрерывно простирая перцептивный момент в будущее. Нечто неизвестное, нечто единичное, никогда не испытанное также может быть предвидено, подобно событию, которое действительно ожидается, но все же является единично новым, событию, которое соответственно ожидается как полностью определенное, как в случае периодического повторения, или как более или менее неопределенное, что чаще и бывает.
В предыдущей лекции мы сосредоточились на грандиозной новой теме. На уровне пассивности она касалась грандиозной проблемы делания очевидным (making evident) или подтверждения (confirmation), а также тесно связанных проблем простой ратификации (ratification) и подтверждения (corroboration) на уровне пассивности. Проблема очевидности привела нас обратно к отличительным синтезам совпадения (coinciding), образующим тождества, а именно к таким синтезам, в которых интуиции и пустые презентации (или интуиции и интуиции) синтетически объединены, но при этом пустые презентации и их исполнение снова играют существенную роль. Это происходит постольку, поскольку интуиция, с одной стороны, приводит в игру пустые горизонтные интенции, а интуиция, с другой стороны, предоставляет соответствующую полноту (fullness) для этих пустых горизонтных интенций.
Логика, которая оставляла бы темным осуществление делания очевидным внутри самой логики, оставалась бы безнадежно неясной. Но если не отказываться от этой центральной проблемы, то первостепенной задачей становится прояснение фундирующего уровня пассивных синтезов "верификации" (verification), лежащих в основе всякой активной верификации. Однако для этого необходимо получить более глубокие инсайты в структуры интуиций и пустых презентаций, которые могут здесь функционировать. Всеобщее значение, которое мы неоднократно подчеркивали, значение, которым все эти типы сознания обладают для целостности трансцендентальной жизни как сознания-целого, ведет нас к анализам, которые вовсе не являются лишь специальной проблемой логики, сколь бы важна последняя ни была. Мы будем приведены к инсайтам в наиболее универсальные закономерности сущностей (essences), в наиболее универсальные закономерности структуры, касающиеся единства трансцендентальной внутренней жизни, но также и в наиболее универсальные закономерности генезиса (genesis).
В последней лекции мы отправлялись от дескриптивного рассмотрения типов интуиции, которые могут функционировать в синтезах подтверждения. Это были либо восприятия, либо презентификации; презентификации были либо воспоминаниями о прошлом, как когда презентируется прошлое переживание, либо воспоминаниями о настоящем, как интуитивные презентации со-присутствующего, например, прихожей этой комнаты, или со-присутствия чужой душевной жизни, данной перцептивно вместе с чужим живым телом (lived-body); или, наконец, это были воспоминания о будущем, интуитивные презентации ожидаемого будущего.
Действительно, там нам пришло в голову, что в восприятии мы все же "горизонтально" со-сознаем прошлое и будущее. Но мы сознаем их пусто, хотя они могут быть впоследствии экспонированы интуитивным образом. Подобным же образом в случае воспоминания: В каждом воспоминании не только есть прошлое, которое может быть прослежено вспять посредством воспоминания, и будущее, но также есть отношение к актуальному настоящему, к будущему через восприятие и, следовательно, к его актуальному будущему. Наконец, даже ожидание не изолировано и не лишено отношения к актуальному настоящему и к прошлому ожидаемого. Во всем этом мы находим внутренние структурные переплетения. Мы скоро увидим, что недостаточно просто сопоставить как типы восприятия, воспоминания о прошлом, воспоминания о настоящем и воспоминания о будущем и описать их совершенно общим образом согласно ноэматическому (noematic) характеру их объектоподобных образований. Или что мы не можем удовлетвориться общим феноменологическим впечатлением и очевидными различиями между всеми типами. Только когда мы поймем их в их структурной взаимосвязанности, мы сможем также понять, как они функционируют в синтетической взаимосвязанности, включая здесь, как и как они могут функционировать как подтверждающие или подтверждаемые.
Это справедливо не только для типов интуиций, но аналогично и для другой стороны, для стороны пустых презентаций.
§18. Описание возможных типов пустой презентации.
Существуют пустые презентации всех возможных объектов во всех субъективных модусах внутренней данности; другими словами, каждому модусу интуиции соответствует возможный модус пустой презентации. То, что мы относим соответствующие пустые презентации и интуиции к одному и тому же [объекту], означает, что через синтез они достигают совпадения относительно объекта.
Фактически, мы вообще не смогли бы говорить о пустых презентациях и приписывать им характер отнесенности к объекту, если бы не принадлежало существенным образом каждой пустой презентации то, что она допускает, так сказать, раскрытие, прояснение, манифестацию своего объектоподобного характера, т.е. что она может вступить в синтез с соответствующей интуицией. Приводя к интуиции пусто означенное там, синтез позволяет нам впервые осознать, что там нечто презентировано пустым образом. Мы можем без колебаний сказать, что неинтуитивные презентации называются презентациями лишь в несобственном смысле; подлинно говоря, они нам ничего фактически не презентируют, в них не конституируется объективный смысл; в них ничего не выстраивается как бытие того или иного содержания через актуальные интенциональные структуры так, чтобы мы могли непрерывно приобретать о нем знание. То, что подлинно презентировано нам, есть то, что интуировано изначальным образом: То, что конституировано перцептивно в его самости (ipseity) и в его чертах, в его различных аспектах и т.д., приходит к нашему изначальному знанию. Но тогда это также верно и для квази-воспринятого, того, что интуитивно презентировано нам в презентификационном модусе интуиции, того, что происходит перед нашим внутренним взором шаг за шагом, репродуктивно или в интуитивной антиципации грядущего. Ничего не происходит подлинно в пустой презентации, объективный смысл не конституируется подлинно. И все же мы говорим, что она презентирует то или это, то есть что я сознаю то или это. Однако в этом случае мы всегда можем поместить это "нечто", данное сознанию, рядом с интуицией его; в синтезе мы обретаем сознание-очевидности (evidence-consciousness), сознание, что точно то же самое [объект], что было пусто означено, присутствует в интуиции подлинным образом, как тот же самый [объект] актуально презентированный.
Естественно, каждой интуиции соответствует пустая презентация, поскольку интуиция никогда не исчезает бесследно после своего завершения. Мы "все еще" сознаем то, что она интуировала, теперь неинтуитивным образом; правда, в конце концов она угасает в общей, недифференцированной пустоте. Каждая такая пустая презентация есть ретенция, и то, что она необходимо связывается с прошлыми интенциями, характеризует фундаментальный закон пассивного генезиса. Как мы знаем, этот закон простирается дальше выраженного здесь, в той мере, в какой он уже играет неустанную роль во внутреннем становлении каждой самой интуиции. Это, несомненно, первый аспект фундаментальной закономерности конституции изначального сознания времени: что каждое переживание, говоря наиболее фундаментально, каждая Теперь-фаза, возникающая первоначально-импрессиональным образом, по существенной необходимости непрерывно модифицируется в ретенции, и эта [ретенционно модифицированная Теперь-фаза] продолжается далее не менее таким образом. То, что справедливо для фаз, справедливо затем для протяженностей, для самих конкретных переживаний. Если ничего нового не происходит первоначально-импрессионально, то интуиция как таковая прошла, что означает, что она полностью перешла в живую ретенцию. Объекты, находящиеся в такой ретенции, раскрываются через процесс приведения [их] к интуиции; этот процесс приведения к интуиции связан с ретенцией согласно существенно закономерной возможности, но не необходимости. Другими словами, они раскрываются в синтетическом переходе к соответствующей интуиции в сознании их: Это, очевидно, синтез подтверждения.
Но теперь следует сказать, что не все пустые презентации имеют одну и ту же природу и функцию; в частности, не все они имеют ту же природу, что ретенции, а именно природу, которую мы находим в изначальном генезисе временного потока, благодаря чему как ретенции [эти пустые презентации] связаны с любым видом интуиции, с любым видом презентации (таким образом, даже с любым видом ретенции); и как мы показали, [это справедливо] не только in concreto, но и в структурной целостности каждой самой интуиции, которая (как и всякое переживание вообще) может быть только в процессе временеконституирующего становления. Относительно учения об этом изначальном генезисе нам приходилось говорить не только о ретенциях, но и о протенциях. В нашем анализе восприятия, который в этом отношении был анализом временных модусов данности, мы уже наблюдали и затрагивали существенно новую роль протенций по сравнению с ролью ретенций. Рубрика "протенция" обозначает второй аспект генетической изначальной закономерности, строго управляющей жизнью сознания как временеконституирующего единого потока. Подобно тому, как к каждому импрессиональному настоящему неизменно присоединяется ретенциональный горизонт прошлого, к импрессиональному настоящему не менее неизменно присоединяется протенциональный горизонт будущего. Подобно тому, как можно раскрыть ретенциональный горизонт, так же можно экспонировать и протенциональный горизонт. Подобно тому, как прошлое впервые ясно экспонируется как таковое через интуитивное воспоминание, а именно как только-что-бывшее, так и конститутивное осуществление протенции экспонируется как вот-вот-должное-прибыть, как становление изначально сознающим будущего.
Все это нам знакомо. Но когда мы делаем следующий вопрос фокусом нашего внимания, мы приходим к чему-то новому: являются ли две пустые презентации как пустые презентации по существу гомогенными, и осуществляют ли они различно характеризованные конститутивные осуществления (прошлое – будущее), например, только через различно регулируемый порядок функционирования или лишь через внутреннюю сложность. С другой стороны, выражения уже кое-что говорят нам, выражения, которые мы должны были выбрать, дифференцируя их, путем интуитивного погружения в обе ситуации. Несмотря на свою чистую пассивность, мы говорили о протенции как об ожидании (expectation), и с красочным образом настоящего, встречающего будущее с распростертыми объятиями. Соответственно, мы уже говорим таким образом в чистой пассивности, что значит даже до [активного] схватывания и рассматривания перцептивного объекта. Мы не использовали такие выражения и не могли использовать такие выражения по отношению к ретенции. В связи с этим существует различие в том, как функционируют ретенция и протенция в внимательном восприятии, когда мы принимаем к сведению [нечто] и схватываем его. Мы внимательно направлены, чисто и просто, на настоящий объект, на все новое Теперь, возникающее как исполняющее ожидание; и в нем и через него, направлены далее на приближающийся объект. Внимательное восприятие следует протенциональной непрерывности. Направленность-вперед (directedness-ahead), уже лежащая в самом пассивном восприятии, становится явной (patent) во внимательном восприятии. С другой стороны, однако, в ретенциональной непрерывности нет направленности; нет направленности, которая следовала бы по следу все дальше оттесняемых прошлых. Здесь можно возразить, что мы, конечно, можем также бросить оглядывающийся взгляд назад, к прошлым. Хотя это может быть верно, вскоре становится ясно, что в двух случаях существует огромная разница, и что мы должны четко различать направленность эгойческого взора (egoic regard) и направленность в самом восприятии, которая уже происходит до схватывающего взора. В одном случае эгойческий взор следует направленности в самом восприятии, в другом – нет.



