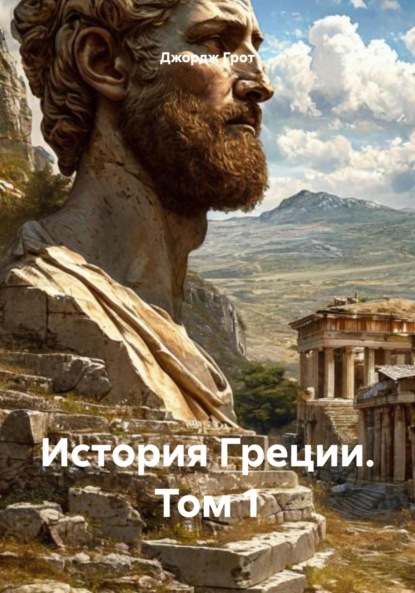
Полная версия:
История Греции. Том 1
У Пиндара Дионис мыслится как Парэдрос, или спутник Деметры в культе:[80] её почитание и религиозная оценка к тому времени претерпели столь же значительные изменения, как и в случае с Дионисом, если сравнивать с кратким описанием у Гомера и Гесиода: она приобрела[81] многие из устрашающих и тревожащих душу атрибутов фригийской Кибелы. У Гомера Деметра – богиня нивы, которая привязывается к смертному Ясиону; несчастная страсть, ибо Зевс, ревнивый к связи богинь с людьми, убивает его. В «Теогонии» Гесиода Деметра – мать Персефоны от Зевса, который разрешает Аиду увести её в жёны; кроме того, от Ясиона у Деметры есть сын Плутос, рождённый на Крите. Уже от Гомера к Гесиоду миф о Деметре расширяется, а её значимость возрастает; согласно обычной тенденции греческих легенд, расширение продолжается. Через Ясиона Деметра связывается с мистериями Самофракии; через Персефону – с Элевсинскими. Первую связь трудно проследить в деталях, но вторая объясняется и возводится к своим истокам в гомеровском гимне Деметре.
[стр. 38]Хотя мы находим разные мнения относительно даты и происхождения Элевсинских мистерий, народная вера афинян и предание, принятое в Элевсине, приписывали их непосредственному присутствию и указанию самой богини Деметры; подобно тому как вакхические обряды, согласно «Вакханкам» Еврипида, впервые были сообщены и навязаны грекам личным посещением Диониса Фив, метрополии вакхических церемоний.[82] В элевсинской легенде, сохранённой автором гомеровского гимна, она приходит добровольно и отождествляет себя с Элевсином; её прежнее пребывание на Крите лишь кратко упомянуто.[83] Её визит в Элевсин связан с глубокой скорбью из-за потери дочери Персефоны, похищенной Аидом, когда та собирала цветы на лугу вместе с Океанидами. Напрасно Персефона в отчаянии взывала к помощи отца Зевса: он уже согласился отдать её Аиду, и её крики услышали лишь Геката и Гелиос. Деметра была безутешна, но не знала, где искать дочь: девять дней и ночей она бродила с факелами, пока наконец Гелиос, «соглядатай богов и людей», не открыл ей, в ответ на её мольбы, правду о похищении и разрешении Зевса. Деметра, охваченная гневом и отчаянием, отвергла Зевса и Олимп, отказалась от нектара и амброзии и скиталась по земле в скорби и посте, пока её облик не стал неузнаваем. В таком состоянии она пришла в Элевсин, которым тогда правил царь Келей. Сидя у дорожного колодца в образе старухи, она была найдена дочерьми Келея, пришедшими за водой. На их вопросы она ответила, что была привезена пиратами с Крита в Торик, откуда бежала, и попросила у них помощи и работы в качестве служанки или няни. Девушки уговорили свою мать Метаниру принять её и доверить ей младенца Демофоонта, их позднего брата, единственного сына Келея. Деметра вошла в дом Метаниры, но её благородный облик всё ещё выдавал скорбь: она долго молчала, не улыбалась и не ела, пока служанка Ямба шутками и весёлостью не развеселила её. Вина она не пила, но попросила особую смесь ячменной муки с водой и мятой.[84]
Младенец Демофон, вскормленный Деметрой, рос «как бог», к радости родителей: она не давала ему обычной пищи, но ежедневно натирала амброзией и каждую ночь погружала в огонь, как факел, где он оставался невредим. Она сделала бы его бессмертным, если бы не вмешалась неосторожная тревога Метаниры, которая подглядела ночью и в ужасе закричала, увидев ребёнка в огне.[85] Разгневанная богиня, поставив младенца на землю, открыла Метанире свою истинную сущность: её увядший облик исчез, и она предстала в божественном величии, озарив весь дом сиянием. «Глупая мать, – сказала она, – твоё неверие лишило сына бессмертия. Я – великая Деметра, отрада богов и людей. Я готовила твоему сыну избавление от смерти и старости, но теперь он будет подвластен им. Однако он всегда будет почитаем, ибо сидел у меня на коленях и спал в моих объятиях. Пусть элевсинцы воздвигнут мне храм и алтарь на холме у источника; я сама установлю для них оргии, которые они должны совершать, чтобы снискать мою милость».[86]
[стр. 40] Ужаснувшаяся Метанейра даже не смогла поднять своего ребёнка с земли; её дочери, услышав крики, вошли и стали обнимать и ухаживать за своим младшим братом, но он горевал, и его нельзя было утешить – так сильно он скорбел о потере своей божественной кормилицы. Всю ночь они пытались умилостивить богиню.[87]
Точнo следуя указаниям Деметры, Келей созвал жителей Элевсина и воздвиг храм на том самом месте, которое она указала. Храм был быстро построен, и Деметра поселилась в нём – вдали от остальных богов, всё ещё тоскуя по своей потерянной дочери и лишая смертных своей благодатной помощи. Так прошёл целый год – год отчаяния и ужаса:[88] напрасно волы тащили плуг, напрасно ячменное зерно бросали в борозду – Деметра не позволяла ему взойти. Род человеческий погиб бы от голода, а боги лишились бы почестей и жертв, если бы Зевс не нашёл способа умиротворить её. Но это было нелегко, ибо Деметра отвергала мольбы Ириды и всех прочих богов и богинь, которых Зевс один за другим посылал к ней. Она соглашалась только на возвращение дочери. Наконец Зевс отправил Гермеса к Аиду, чтобы тот вернул Персефону; Персефона с радостью согласилась, но перед уходом Аид уговорил её проглотить зерно граната, из-за чего она уже не могла оставаться вдали от него весь год.[89]
С ликованием Деметра встретила свою потерянную дочь, и верная Геката разделила радость их воссоединения.[90] Теперь стало легче примирить её с богами. Её мать Рея, специально посланная Зевсом, спустилась с Олимпа на плодородную равнину Рария, которая к тому времени, как и вся земля, была поражена бесплодием. Ей удалось смягчить гнев Деметры, и та согласилась [стр. 41] вновь проявить свою милость. Погребённые семена дали обильные всходы, и земля покрылась плодами и цветами. Деметра хотела бы навсегда оставить Персефону при себе, но это было невозможно, и ей пришлось согласиться, чтобы дочь проводила треть каждого года в доме Аида, покидая её каждую весну во время посева. Затем Деметра вернулась на Олимп, чтобы вновь жить среди богов; но перед уходом она открыла дочерям Келея, самому Келею, а также Триптолему, Диоклу и Евмолпу богослужение и обряды, которые должны были совершаться в её честь.[91] Так по её особому повелению начались священные Элевсинские мистерии: малые мистерии, отмечавшиеся в феврале в честь Персефоны, и великие – в августе, в честь самой Деметры. Обе они стали покровительницами священного города и храма.
Вот краткий пересказ храмовой легенды Элевсина, подробно изложенной в гомеровском гимне Деметре. Она интересна не только как изображение Mater Dolorosa (для афинян Деметра и Персефона всегда были Матерью и Дочерью по преимуществу) – сначала страдающей, а затем прославленной, причём благополучие и горе людей зависели от её благосклонности, – но и как иллюстрация природы и развития греческих легенд в целом. Хотя сегодня мы читаем этот гимн как прекрасную поэзию, для элевсинцев, для которых он был создан, это была подлинная и священная история. Они верили в посещение Деметрой Элевсина и в мистерии как её откровение так же твёрдо, как верили в её существование и могущество как богини. Элевсинский псалмопевец разделяет эту веру со своими соотечественниками и воплощает её в связном повествовании, где великие богини этого места и великие героические семьи выступают в неразрывной связи.[стр. 42] Келей – сын эпонимного героя Элевсина, и его дочери, в духе старого эпоса, носят кувшины к колодцу за водой. Евмолп, Триптолем, Диокл – легендарные предки привилегированных семей, которые на протяжении всей истории Афин сохраняли свои наследственные функции в Элевсинских обрядах, – они в числе первых, кто получил вдохновение от богини; но особенно она благоволит Метанейре и её младенцу Демофонту, для которого предназначен величайший дар, утраченный лишь из-за слабой веры матери.
Более того, каждый эпизод гимна имеет местный колорит и особый смысл. Колодец, осенённый оливой, где отдыхала Деметра, поток Каллихор и храмовая гора были знакомыми и дорогими местами для каждого элевсинца; особый напиток из ячменной муки с мятой, который богиня прервала свой долгий пост, всегда вкушался мистами (посвящёнными) после предписанного поста как часть церемонии, – тогда как во время процессии на определённом месте разрешалось свободно обмениваться шутками и насмешками для всеобщего веселья. Эти два обычая в гимне связаны с тем, что сама Деметра выбрала этот напиток как первое прерывание своего поста, а её скорбные мысли были отчасти развеяны грубоватыми шутками служанки Иамбы. В расширенном варианте Элевсинских мистерий, установившемся после включения Элевсина в состав Афин, роль Иамбы исполняла женщина (или мужчина в женском одеянии) с подходящим остроумием и фантазией, которая стояла на мосту через Кефисс и отпускала дерзкие насмешки в адрес участников процессии,[92] особенно знатных афинян, – вероятно, не менее едкие, чем те, что звучали со сцены у Аристофана. Факелоносная Геката также почиталась в ночных обрядах Элевсиний: в гимне это объясняется её добротой и сочувствием великим богиням. [стр. 43]
Хотя все эти события искренне воспринимались элевсинцами как подлинная история прошлого и как истинная причина возникновения их собственных священных обрядов, несомненно, что это всего лишь мифы или предания, а не исторические факты – ни реальные, ни преувеличенные. Они берут начало не из реалий прошлого, а из реалий настоящего, соединенных с ретроспективным чувством и фантазией, которая заполняет пробелы древности правдоподобным и впечатляющим образом. Какая доля правды содержится в этом предании, или есть ли она там вообще, установить невозможно, да и бесполезно пытаться, ведь вера в эту историю возникла не из-за её близости к реальным событиям, а из-за её полного соответствия элевсинской вере и чувствам, а также из-за отсутствия каких-либо критериев исторической достоверности.
Небольшой город Элевсин обрел всё своё значение благодаря священным Деметриям, и гимн, который мы рассматриваем (вероятно, созданный не позднее 600 г. до н. э.), изображает город таким, каким он был до его включения в более крупное государственное единство Афин, что, по-видимому, привело к изменению его преданий и усилению значимости его главного праздника. Для верующего элевсинца религиозные и патриотические древности его родного города были неразрывно связаны с этим важнейшим священнодействием. Божественное предание о страданиях Деметры и её посещении Элевсина значило для него то же, что для сикионца – героическое сказание об Адрасте и осаде Фив, или для афинянина – миф об Эрехтее и Афине, объединявших в одном повествовании богиню и героических основателей города. Если бы у нас было больше сведений, мы, вероятно, обнаружили бы множество других легенд, связанных с Деметриями: афинские Гефиреи, к которым принадлежали знаменитые Гармодий и Аристогитон и у которых были особые оргии Деметры Печальной, куда не допускался никто, кроме членов их рода,[93] несомненно, рассказывали бы истории не только иные, но и противоречащие элевсинским. Даже в других элевсинских мифах мы встречаем Евмолпа как царя Элевсина, сына Посейдона и фракийца – совершенно непохожего на того, каким он предстает в рассматриваемом гимне.[94]
Ни противоречия, ни отсутствие [с. 44] доказательств в отношении предполагаемых древностей не подрывали веру неисторической публики. Им нужно было впечатляющее и правдоподобное для их воображения изображение прошлого, и читателю важно помнить, знакомясь как с божественными легендами, которые мы здесь рассматриваем, так и с героическими, к которым вскоре перейдем, что он имеет дело с прошлым, которого никогда не было, – с областью сугубо мифической, недоступной для критики и не поддающейся хронологическому измерению.
Предание о посещении Деметры, рассказывавшееся древним родом Фиталидов[95] в связи с другим храмом Деметры между Афинами и Элевсином, а также мегарцами в связи с Деметрионом близ их города, при афинском влиянии получило еще большее распространение. Богиня, как утверждалось, впервые открыла в Элевсине Триптолему искусство сеять зерно, которое благодаря ему распространилось по всей земле. Таким образом, афиняне приписывали себе заслугу посредничества между богами и людьми в даровании неоценимых благ земледелия, которое, по их словам, впервые проявилось на плодородной Рарийской равнине близ Элевсина. Подобных притязаний нет в древнем гомеровском гимне.
Праздник Фесмофорий, отмечавшийся в честь Деметры Законодательницы (Фесмофоры) в Афинах, совершенно отличался от Элевсиний, в частности тем, что на него не допускались мужчины, и участвовать в нем могли только женщины: эпитет «Фесмофора» дал начало новым легендам, в которых богиня прославлялась как первая создательница законов и правовых установлений для человечества.[96] Этот праздник, исключительно для женщин, также [с. 45] отмечался на Паросе, в Эфесе и во многих других частях Греции.[97]
В целом, Деметра и Дионис, будучи греческими аналогами египетских Исиды и Осириса, по-видимому, стали главными восприемниками новых священных обрядов, заимствованных из Египта, прежде чем культ Исиды под её собственным именем проник в Грецию: их празднества стали чаще носить замкнутый и таинственный характер, чем у других божеств. Значение Деметры для общегреческой национальной идентичности видно из того, что её храм был воздвигнут у Фермопил, на месте проведения амфиктионий, рядом с храмом героя-эпонима Амфиктиона и под именем Амфиктионской Деметры.[98]
Теперь мы переходим к другой, не менее важной небесной личности – Аполлону.
Легенды о Делосе и Дельфах, изложенные в гомеровском гимне Аполлону, указывают, если не на большее достоинство, то по крайней мере на более широкое распространение его культа, чем даже культа Деметры. Гимн, по сути, представляет собой соединение двух отдельных произведений: одно создано ионийским певцом на Делосе, другое – в Дельфах. Первое повествует о рождении, второе – о зрелой божественной силе Аполлона; но оба одинаково обладают неподдельным очарованием и характерными особенностями греческого мифического повествования. Гимнограф поёт, а его слушатели искренне верят в рассказ о прошлом, но это прошлое отчасти вымышлено как вводное объяснение настоящего, отчасти как способ прославления бога.
Остров Делос считался признанным местом рождения Аполлона и местом, где он особенно любил бывать, где периодически собирался великий и блистательный ионийский праздник в его честь. Однако это узкий, бесплодный и непривлекательный утёс: как же ему было даровано столь славное преимущество? Это поэт берётся объяснить. Лето, беременная Аполлоном и преследуемая ревнивой Герой, не могла найти места для рождения своего ребёнка. Напрасно она обращалась ко многим местам в Греции, на побережье Малой Азии и на промежуточных островах: все, устрашившись гнева Геры, отказывали ей в пристанище. В последней надежде она обратилась к отвергнутому и неприветливому острову Делосу и пообещала, что если ей будет предоставлено убежище в её бедственном положении, остров станет избранным местом пребывания Аполлона, а также местом его храма с богатыми accompanying священнодействиями.[99] Делос радостно согласился, но не без опасений, что могущественный Аполлон презрит его недостоинство, и не без требования от Лето торжественной клятвы. Затем она была допущена к желанному приюту и после долгих мук разрешилась от бремени. Хотя Диона, Рея, Фемида и Амфитрита пришли утешить и помочь ей, Гера удерживала богиню родов Илифию, жестоко продлевая её страдания. Наконец Илифия явилась, и Аполлон родился.
Едва Аполлон вкусил из рук Фемиды бессмертную пищу – нектар и амброзию, как сразу разорвал свои младенческие пелены и предстал в полном божественном облике и силе, требуя свои характерные атрибуты – лук и лиру – и свою привилегированную роль возвещать людям замыслы Зевса. Обещание, данное Лето Делосу, было исполнено: среди бесчисленных других храмов и рощ, которые люди воздвигли для него, он всегда предпочитал этот остров как своё постоянное местопребывание, и туда ионийцы с жёнами, детьми и всем своим «блеском» периодически собирались из разных городов, чтобы прославить его. Танцы, песни и атлетические состязания украшали торжество, а бесчисленные корабли, богатство и изящество множества ионийцев придавали собранию вид сонма богов.
Делосские девы, служительницы Аполлона, пели гимны во славу бога, а также Артемиды и Лето, перемежая их рассказами о приключениях былых мужей и жён, к восторгу слушающей толпы. Слепой странствующий певец из Хиоса (создатель этого гомеровского гимна, в древности отождествляемый с автором «Илиады») снискал почёт и признание на этом празднике и в трогательной прощальной песне просит делосских дев хранить о нём память и сочувствие.[100] Но Делос не был местом прорицаний: Аполлон не являлся там как провозвестник воли Зевса о будущем. Нужно было найти место, где эта благодетельная функция – без которой человечество погибло бы под гнетом бесчисленных сомнений и жизненных трудностей – могла бы осуществляться и быть доступной. Сам Аполлон спускается с Олимпа, чтобы выбрать подходящее место: гимнограф знает тысячу других приключений бога, которые мог бы воспеть, но предпочитает этот памятный случай – акт освящения и основания Дельфийского храма.
Много разных мест осмотрел Аполлон: он обследовал земли магнетов и перребов, прибыл в Иолк, а оттуда переправился в Эвбею на равнину Леланта. Но даже этот плодородный край не понравился ему: он пересёк Эврип, направился в Беотию, прошёл мимо Теумessa и Микалесса, мимо тогда ещё неприступного и необитаемого леса, где позже возникнет город Фивы. Затем он отправился в Онхест, но там уже было святилище Посейдона; далее – через Кефисс в Окалею, Галиарт и к прекрасной равнине с часто посещаемым источником Дельфузы (или Тильфузы).
Место ему понравилось, и Аполлон уже готов был основать здесь своё прорицалище, но Тильфуза, гордившаяся красотой своих земель, не желала, чтобы её слава затмилась славой бога. [101] Она напугала его, сказав, что колесницы, состязающиеся на её равнине, и кони с мулами, пьющие из её источника, нарушат торжественность его оракула. Так она заставила его двинуться дальше – к южному склону Парнаса, нависающему над гаванью Криссы.
Здесь, в горной местности, куда не доезжали колесницы и кони, близ источника, охраняемого огромным и ужасным змеем (когда-то вскормившим чудовище Тифона), Аполлон основал своё прорицалище. Бог убил змея стрелой и оставил его тело гнить на солнце – отсюда название места «Пифо» [102] и прозвище Аполлона Пифийского. Наметив план храма, он поручил его строительство Трофонию и Агамеду, [стр. 48] которым помогали толпы усердных работников из окрестностей.
Однако вскоре Аполлон с гневом понял, что Тильфуза обманула его, и стремительно вернулся, чтобы отомстить. «Не бывать тому, – сказал он, – чтобы твой обман остался безнаказанным, а твои прекрасные воды – нетронутыми. Слава этого места будет принадлежать мне, а не только тебе». С этими словами он обрушил скалу на источник, перекрыв его чистые воды, и воздвиг себе алтарь в роще неподалёку, у другого ключа, где люди до сих пор почитают его как Аполлона Тильфусийского – в память о суровой мести, которую он совершил над некогда прекрасной Тильфузой. [103]
Теперь Аполлону нужны были избранные служители, чтобы заботиться о его храме, совершать жертвоприношения и возвещать его пророчества в Пифо. Увидев корабль «с множеством достойных мужей», плывущий из минойского Кносса на Крите в Пилос (Пелопоннес) для торговли, он решил воспользоваться судном и его командой. Приняв облик огромного дельфина, он плескался и сотрясал корабль, вселяя в моряков ужас, а затем наслал сильный ветер, который погнал судно вдоль побережья Пелопоннеса в Коринфский залив и, наконец, в гавань Криссы, где оно село на мель.
Перепуганные моряки не решались сойти на берег, но тут на берегу предстал Аполлон в облике юноши и спросил, кто они и зачем прибыли. Капитан критян рассказал о своём чудесном и вынужденном плавании, после чего Аполлон открылся им как устроитель их пути и возвестил о почётной роли, которую им уготовил. [104] По его велению они последовали за ним к скалистой Пифо на Парнасе, распевая торжественный «Ио-Пеан» в критской манере, в то время как сам бог шёл впереди, величественный и прекрасный, играя на кифаре.
Он показал им храм и место оракула, повелев почитать его как Аполлона Дельфиния, ибо впервые они увидели его в образе дельфина. «Но как мы будем жить в этом месте, где нет ни хлеба, ни винограда, ни пастбищ?» – спросили они. «О глупые смертные, – ответил бог, – ищущие лишь тягот и лишений, знайте: ваш удел будет легче. Вы будете жить за счёт скота, которого толпы благочестивых паломников приведут в храм. [стр. 49] Вам нужен будет лишь нож, всегда готовый для жертвоприношений. [105] Ваша обязанность – охранять мой храм и служить на моих празднествах. Но если совершите несправедливость или проявите дерзость словом или делом – станете рабами других людей навеки. Помните мои слова и предостережение».
Таковы, согласно гомеровскому гимну, предания о Делосе и Дельфах. Специфические функции бога, главные места его почитания и связанные с ними эпитеты объясняются через его прошлые деяния и приключения. Хотя для нас это лишь занимательная поэзия, для слушателей того времени эти сказания обладали всеми признаками истории и принимались за правду – не потому, что имели под собой реальную основу, а потому, что полностью соответствовали их чувствам. И пока это условие соблюдалось, в ту эпоху не было принято разбирать, где правда, а где вымысел.
Повествование носит чисто личностный характер, без намёка на аллегорию или скрытую доктрину. Конкретные деяния Аполлона вытекают из общих представлений о его свойствах в сочетании с реальными чертами его культа. Это не история и не аллегория, а простой миф или предание.
Почитание Аполлона является одним из древнейших, важнейших и наиболее ярких явлений греческого мира, широко распространённого среди всех ветвей эллинского народа. Оно старше «Илиады» и «Одиссеи», причём в последней упоминаются и Пифо, и Делос, хотя в первой Делос не назван. Однако древний Аполлон во многих отношениях отличается от Аполлона более поздних времён. Он особенно выступает как бог троянцев, враждебный грекам и в частности Ахиллесу; кроме того, у него есть лишь две основные черты – его лук и пророческий дар, без какой-либо явной связи ни с кифарой, ни с врачеванием, ни с солнцем, хотя впоследствии он вобрал в себя все эти атрибуты. Он не только, как Аполлон Карнейский, является главным[стр. 50] богом дорийского племени, но и (под именем Патроя) великим покровителем родовых связей у ионийцев:[106] более того, он – вдохновитель и руководитель греческой колонизации, едва ли хоть одна колония выводилась без одобрения и указаний дельфийского оракула: Аполлон Архэгет – одно из его важнейших прозвищ.[107] Его храм освящает собрания амфиктионии, и он всегда пребывает в сыновнем подчинении и согласии со своим отцом Зевсом: Дельфы и Олимпия никогда не вступают в конфликт. В «Илиаде» горячими и ревностными защитниками греков выступают Гера, Афина и Посейдон: здесь также видны гармония между Зевсом и Аполлоном, ибо Зевс явно благосклонен к троянцам и лишь нехотно жертвует ими, уступая настойчивости двух великих богинь.[108] Культ Сминфейского Аполлона в различных областях Троады и соседних земель восходит к временам, предшествовавшим самым ранним периодам эолийской колонизации:[109] отсюда и ревностное покровительство Трое, приписываемое ему в «Илиаде». В целом, однако, распределение ролей и симпатии богов в этой поэме отличаются от тех, что сложились в более поздние времена, – разница, которую наши источники не позволяют удовлетворительно объяснить. Помимо дельфийского храма, Аполлон имел многочисленные храмы по всей Греции, а также оракулы в Абе (Фокида), на горе Птоон и в Тегире (Беотия), где, как утверждалось, он родился,[110] в Бранхидах близ Милета, в Кларе (Малая Азия) и в Патаре (Ликия). Он был не единственным богом-прорицателем: Зевс в Додоне и Олимпии также давал прорицания; боги или герои Трофоний, Амфиарай, Амфилох, Мопс и др., каждый в своём[стр. 51] святилище и своим особым образом, оказывали ту же услугу.
Две вышеупомянутые легенды – о Дельфах и Делосе – составляют, конечно, лишь ничтожную часть повествований, некогда существовавших о великом и почитаемом Аполлоне. Они служат лишь образцами, притом очень ранними,[111] иллюстрирующими, каковы были эти божественные мифы и каков был характер греческой веры и воображения. Постоянно повторяющиеся празднества в честь богов создавали непрерывный спрос на новые мифы о них или, по крайней мере, на вариации и переработки старых. Даже в III веке н. э., во времена ритора Менандра, когда старые формы язычества уже клонились к упадку и когда существовало чрезвычайное обилие мифов, мы видим этот спрос в полной силе; но он был несравненно более действенным в те ранние времена, когда творческая жилка греческого ума ещё сохраняла свою первоначальную свежесть. У каждого бога было множество различных прозвищ, храмов, рощ и празднеств; с каждым из них было связано большее или меньшее количество мифических повествований, первоначально порождённых богатой и самобытной фантазией верующего населения, а затем расширенных, украшенных и распространённых песнями поэтов. Самым ранним предметом состязаний[112] на великом Пифийском празднестве было пение гимна в честь Аполлона: впоследствии добавились другие агоны, но ода или гимн оставались основой торжества: Пифийские игры в Сикионе и других местах, вероятно, устраивались по тому же образцу. Точно так же на древнем и знаменитом Харитийском празднике, или празднике Харит, в Орхомене, соревнование поэтов в различных видах творчества было и началось, и продолжалось как главная черта:[113] а бесценные сокровища аттической трагедии и комедии, дошедшие до нас, – лишь малая часть множества драм, некогда ставившихся на Дионисиях. Эфесяне давали значительные награды за лучшие гимны в честь Артемиды, которые исполнялись в её храме.[114] И ранние лирические поэты Греции, хотя их произведения до нас не дошли, в значительной мере посвящали свой талант подобным сочинениям, как видно по сохранившимся названиям и фрагментам.

