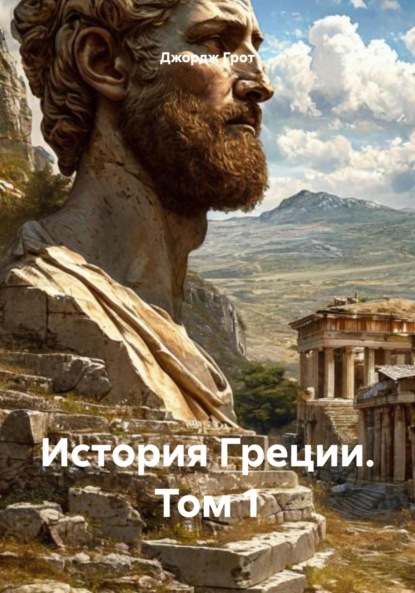
Полная версия:
История Греции. Том 1
Как христианство, так и ислам возникли в историческую эпоху, распространились из единого центра и утвердились на развалинах предшествующей иной веры. Ни одна из этих особенностей не присуща греческому язычеству. Оно зародилось в эпоху, когда господствовали лишь воображение и чувство, без ограничений, но и без помощи письменности или летописей, истории или философии: как правило, оно было самобытным продуктом многих отдельных племён и местностей, где подражание и заимствование играли второстепенную роль; более того, насколько позволяют судить наши источники, оно было изначальной верой. Эти соображения объясняют нам два факта из истории раннего языческого мировоззрения: во-первых, божественные мифы, составлявшие суть их религии, были также и сутью их древнейшей истории; во-вторых, эти мифы согласовывались друг с другом лишь в общих чертах, но в деталях различались неустранимо. Поэт, воспевавший новое приключение Аполлона, о котором он мог услышать в каком-нибудь отдалённом месте, заботился о том, чтобы оно соответствовало общим представлениям о боге, сложившимся у его слушателей. Он не приписал бы пояса или любовных чар Афине, ни вооружённого вмешательства и эгиды – Афродите; но, если он сохранял это общее соответствие, он мог без ограничений давать волю своей фантазии в деталях сюжета.[115] Чувства и вера его слушателей следовали за ним, и никакие критические сомнения их не сдерживали: разбор действий богов был неприятен, а неверие в них – нечестиво. И потому эти божественные мифы, хотя и коренились лишь в религиозных чувствах и хотя содержали множество противоречий, служили раннему греку исходным материалом истории: это были единственные повествования, одновременно общепризнанные и интересные, которыми он располагал. К ним примыкали героические мифы (к которым мы перейдём далее), – более того, те и другие неразрывно переплетены, боги, герои и люди почти всегда появляются в одной картине, – сходные и по структуре, и по происхождению и различающиеся главным образом тем, что они исходили из образа героя, а не бога.
Нам не следует удивляться, если в «Илиаде» Афродита оказывается рождённой от Зевса и Дионы, а в «Теогонии» Гесиода – возникшей из морской пены после оскопления Урана; или если в «Одиссее» она предстаёт как жена Гефеста, тогда как в «Теогонии» последний женат на Аглае, а Афродита названа матерью троих детей от Ареса.[116] Гомеровский гимн Афродите подробно излагает легенду о связи богини с Анхисом, что в «Илиаде» служит основой для происхождения Энея: однако автор гимна, вероятно исполнявшегося на одном из праздников Афродиты на Кипре, описывает богиню, стыдящуюся своей страсти к смертному, и строго запрещающую Анхису под страхом наказания раскрывать имя матери Энея;[117] тогда как в «Илиаде» она без стеснения признаёт его своим сыном, и он повсюду считается её законным потомком. В гимне Афродита изображена как холодная и бесстрастная, но всегда активная и неотразимая в пробуждении любовных чувств у богов, людей и животных. Три богини упоминаются как исключения из её всеобщего владычества – Афина, Артемида и Гестия (Веста). Афродита была одной из важнейших богинь мифического мира, ибо число интересных, трогательных и трагических историй, связанных с неразделённой или несчастной любовью, было, конечно, очень велико; и в большинстве этих случаев вмешательство Афродиты обычно предварялось легендой, объясняющей, почему она проявила себя. Сфера её влияния расширяется в позднем эпосе, лирике и трагедии по сравнению с Гомером.[118]
Афина, «мужеподобная богиня»,[119] рождённая из головы Зевса, без матери и без женских симпатий, является антитезой отчасти Афродите, отчасти женственному или изнеженному богу Дионису – последний был заимствован из Азии, но Афина – чисто греческое представление, воплощающее собранную, величественную и неумолимую силу. Однако кажется, что в разных частях Греции эту богиню представляли по-разному. В некоторых легендах ей приписываются черты домовитости и трудолюбия: она изображается как спутница Гефеста,[p. 55] покровительствующая ремёслам, искусная в ткачестве и прядении; афинские гончары почитали её вместе с Прометеем. Такие черты плохо сочетаются с грозным эгидом и тяжёлым копьём, которые Гомер и большинство мифов приписывают ей. Вероятно, изначально существовало как минимум два разных образа Афины, и их слияние частично стёрло менее выраженный из них.[120] Афина – постоянная и бдительная защитница Геракла; она также локально отождествляется с землёй и народом Афин даже в «Илиаде»: Эрехтей, афинский герой, рождён землёй, но Афина воспитывает его, питает и поселяет в своём храме, где афиняне ежегодно чтут его жертвами и обрядами.[121] Сделать Эрехтея сыном Афины было совершенно невозможно – тип богини не допускал этого; но афинские создатели мифов, хотя и нашли этот барьер непреодолимым, стремились приблизиться к нему как можно ближе, и их описание рождения Эрихтония, одновременно негомеровское и непристойное, создаёт нечто вроде призрака материнства.[122]
Охотница Артемида в Аркадии и собственно Греции представляет собой чётко определённый тип, с которым легенды о ней вполне согласуются. Однако эфесская и таврическая Артемида несёт больше азиатских черт, заимствуя атрибуты лидийской Великой Матери, а также местной таврической Девы:[123] эта эфесская Арте[p. 56]мида перешла к колониям Фокеи и Милета.[124] Гомеровская Артемида разделяет со своим братом Аполлоном искусство стрельбы из дальнобойного лука, и внезапная смерть описывается поэтом как результат её нежного стрелового удара. Ревность богов из-за недостатка почестей и жертв или из-за дерзости смертных, состязающихся с ними – черта, так часто повторяющаяся в образах греческих богов, – проявляется и в легендах об Артемиде: знаменитый калидонский вепрь был наслан ею на Энея за то, что он пренебрёг жертвой в её честь, в то время как других богов почтил.[125] Однако аркадская героиня Аталанта – это почти точное воспроизведение Артемиды, с минимальными отличиями, и иногда богиню даже путают с её нимфами-спутницами.
Могучий Посейдон, «земледержец» и владыка морей, уступает в силе только Зевсу, но не обладает теми верховными и надзирающими функциями, которые присущи отцу богов и людей. У него множество героических потомков, обычно людей огромной физической силы, многие из которых принадлежат к эолийскому роду: великое нелеидовское семейство Пилоса возводит к нему своё происхождение; он также отец циклопа Полифема, чьи заслуженные страдания он жестоко мстит Одиссею. Остров Калаврия – его Делос,[126] и там существовала древняя местная амфиктиония, целью которой было совместное почитание и жертвоприношение ему; Истм Коринфа, Гелика в Ахайе и Онхест в Беотии – также места, которые он особенно любит и где ему поклоняются с особым почтением. Но изначально и особенно он избрал для себя Акрополь Афин, где ударом трезубца создал источник в скале: позже Афина заявила свои права на это место, посадив в знак владения оливу, которая росла в священной роще Пандросы; и решение либо автохтона Кекропа, либо Эрехтея отдало предпочтение ей, что сильно разгневало Посейдона. Либо по этой причине, либо из-за смерти его сына Евмолпа, убитого, когда он помогал элевсинцам против Эрехтея, аттические мифы приписывают Посейдону великую вражду к роду Эрехтеидов, который, как утверждается, он в конце концов низверг: Тесей, чья славное правление и подвиги пришли на смену этому роду, считается его настоящим сыном.[127] В нескольких других местах – на Эгине, в Аргосе и Наксосе – Посейдон оспаривал привилегии покровительства с Зевсом, Герой и Дионисом: он проиграл во всех случаях, но смиренно принял поражение.[128] Посейдон, как и Аполлон, будучи богами, претерпел долгое рабство[129] по приказу и осуждению Зевса под властью троянского царя Лаомедонта: оба бога восстановили стены города, разрушенные Гераклом. Когда срок их службы истёк, надменный Лаомедонт отказал им в обещанной награде и даже сопроводил отказ угрозами; и последующая вражда бога к Трое во многом определялась чувством этой несправедливости.[130] Подобные периоды рабства, наложенные на отдельных богов, – одни из самых примечательных эпизодов в божественных легендах. Мы видим, как Аполлон в другом случае приговорён служить Адмету, царю Фер, в наказание за убийство киклопов, а Геракл продан в рабство Омфале. Даже свирепый Арес был overpowered и заключён в темницу на долгое время двумя Алоидами,[131] и в итоге освобождён лишь благодаря внешней помощи. Подобные повествования демонстрируют безграничность греческой фантазии в отношении богов, а также полное смешение божественного и человеческого в их представлениях о прошлом. Бог, который служит, на это время унижен; но верховный бог, который повелевает этим служением, соответственно возвышается, в то время как идея некоего порядка и управления среди этих сверхъестественных существ никогда не теряется. Тем не менее, мифы о рабстве богов, наряду со многими другими, позже подверглись жёсткой критике со стороны философов.
Гордая, ревнивая и озлобленная Гера – богиня некогда богатых Микен, зачинщица и движущая сила Троянской войны, постоянная покровительница Ясона в походе аргонавтов[132] – занимает незаменимое место в мифологическом мире. Как дочь Кроноса и супруга Зевса, она восседает на троне, с которого он не может её свергнуть, что даёт ей право вечно ворчать и ему перечить[133]. Её безмерная ревность к возлюбленным Зевса и ненависть к его сыновьям, особенно к Гераклу, стали источником бесчисленных мифов: общий тип её характера здесь чётко обозначен, давая и стимул, и направление мифотворческой фантазии. «Священный брак», или союз Зевса и Геры, был известен эпиталамическим поэтам задолго до того, как стал предметом аллегорических толкований критиков.
Гефест – сын Геры, рождённый без отца, и состоит с ней в таких же отношениях, как Афина с Зевсом: её гордость и бессердечие проявляются в том, что она сразу же отвергает его из-за уродства[134]. Он – бог огня, особенно в его практическом применении к ремёслам, и незаменим как правая рука и орудие богов. Его мастерство и уродство поочерёдно служат источником мифов: когда требуется обозначить искусное и изящное творение, создателем объявляется Гефест, хотя в этой роли его характер отчасти повторяется в Дедале. В аттических легендах он тесно связан и с Прометеем, и с Афиной, вместе с которыми почитался в Колоне близ Афин. Любимым местом пребывания Гефеста был Лемнос; и если бы у нас было больше сведений об этом острове и его городе Гефестии, мы, без сомнения, нашли бы множество легенд, повествующих о его приключениях и вмешательствах.
Целомудренная, тихая и домоседка Гестия, богиня семейного очага, гораздо менее плодовита на мифы, несмотря на её высокое достоинство, чем хитрый, сладкоречивый, ловкий и корыстолюбивый Гермес. Его роль вестника богов[стр. 59] постоянно выводит его на сцену, давая простор для изображения черт его характера. Гомеровский гимн Гермесу описывает обстоятельства его рождения и почти мгновенное проявление его особых свойств ещё в младенчестве; он объясняет дружеские отношения с Аполлоном – обмен дарами и функциями между ними – и, наконец, нерушимую сохранность всех сокровищ и даров в Дельфийском храме, которые, несмотря на отсутствие видимой защиты, оставались недоступны для воров. Столь врождённой была ловкость и талант Гермеса, что в день своего рождения он изобрёл лиру, натянув семь струн на панцирь черепахи[135], а также похитил коров Аполлона в Пиерии, приведя их задом наперёд в свою пещеру в Аркадии, чтобы следы нельзя было распознать. На упрёки матери Майи, указывающей ему на опасность гнева Аполлона, Гермес отвечает, что стремится сравняться в достоинстве и власти с Аполлоном среди бессмертных, и если Зевс откажет ему в этом, он применит своё воровское искусство, чтобы взломать святилище в Дельфах и похитить золото, одеяния, драгоценные треножники и сосуды[136]. Вскоре Аполлон обнаруживает пропажу своих коров и после долгих поисков приходит в Киленейскую пещеру, где видит Гермеса, спящего в колыбели. Младенец нагло отрицает кражу и даже называет подозрение нелепой невозможностью; он продолжает отпираться даже перед Зевсом, но тот сразу разоблачает его и заставляет указать, где спрятаны коровы. Однако лира ещё неизвестна Аполлону, который до сих пор слышал лишь голос Муз и звуки свирели. Настолько сильно он очарован её звучанием в руках Гермеса и так жаждет завладеть ею, что готов простить прошлую кражу и даже заручиться дружбой Гермеса[137].
Таким образом, между двумя богами заключается сделка, скреплённая Зевсом. Гермес отдаёт Аполлону лиру, изобретая для себя сирингу (свирель Пана), а взамен получает от Аполлона золотой жезл богатства, власть над стадами и табунами, а также над дикими зверями лесов. Он настаивает на даре прорицания, но Аполлон связан клятвой не передавать этого дара никому из богов. Вместо этого он обучает Гермеса, как добывать сведения – в известной мере – у самих Мойр (Судьбы), а сверх того назначает его вестником богов в царство Аида.
Хотя Аполлон и получил лиру, предмет своих желаний, он всё же опасается, что Гермес снова её у него похитит вместе с луком, и требует от него нерушимой клятвы Стиксом. Гермес торжественно обещает не крать его достояния и никогда не вторгаться в святилище Аполлона, а тот, со своей стороны, клянётся признать Гермеса своим избранным другом и спутником среди всех прочих сыновей Зевса, смертных или бессмертных[138].
Так, по воле Зевса, Аполлон оказал Гермесу особую милость. Но Гермес (заключает гимнограф с необычной для описания бога откровенностью) «приносит мало добра: пользуясь покровом ночи, он безмерно обманывает племена смертных»[139]. [стр. 61]
Здесь общие типы Гермеса и Аполлона, в сочетании с известным фактом, что ни один вор никогда не приближался к богатым и, казалось бы, доступным сокровищам Дельф, порождают цепь объяснительных эпизодов, облечённых в квази-историческую форму и детально описывающих, как получилось, что Гермес связал себя особым соглашением уважать дельфийский храм. Типы Аполлона, по-видимому, различались в разные времена и в разных частях Греции: в некоторых местах его почитали как Аполлона Номия,[140] покровителя пастбищ и скота; и этот атрибут, который в других местах перешёл к его сыну Аристею, в данном гимне добровольно уступается Гермесу, сочетаясь с золотым жезлом плодородия. С другой стороны, лира изначально не принадлежала Далекоразящему Царю, и он вовсе не является её изобретателем: гимн объясняет как её первое создание, так и то, как она попала в его владение. Таким образом, ценность этих эпизодов отчасти объяснительная, отчасти иллюстративная, поскольку они детально раскрывают общий предустановленный характер килленского бога.
Зевсу приписывается больше любовных связей, чем любому другому богу, – вероятно, потому, что греческие цари и вожди особенно стремились возвести своё происхождение к высшему и славнейшему из всех, – и каждая из этих связей имела своё земное потомство.[141] Подобные сюжеты были одними из самых многообещающих и приятных для мифического повествования, и Зевс как любовник стал отцом множества легенд, разветвляющихся в бесчисленные вмешательства, повод для которых давали его сыновья – все выдающиеся личности, многие из которых подвергались преследованиям со стороны Геры. Но помимо этого, властные функции верховного бога – судебные и административные, распространяющиеся и на богов, и на людей, – служили мощным стимулом для мифотворческой активности. Зевс должен блюсти собственное достоинство – главное для бога; более того, как Горкий, Ксений, Ктесий, Мейлихий (лишь малая часть его тысячи эпитетов) он гарантировал клятвы и наказывал клятвопреступников, обеспечивал соблюдение законов гостеприимства, охранял семейные запасы и собранный за год урожай, а также даровал искупление раскаявшемуся преступнику.[142] Все эти различные функции создавали спрос на мифы как средство перевода смутного, но серьёзного предчувствия в отчётливую форму, понятную как для самого себя, так и для других. Для утверждения святости клятвы или уз гостеприимства самым мощным аргументом была бы подборка легенд о судах Зевса Горкия или Ксения; чем впечатляюще и ужаснее были бы эти легенды, тем больший интерес они вызывали бы и тем меньше кто-либо осмелился бы в них усомниться. Они представляли собой естественное излияние сильного и общего чувства, вероятно, без какого-либо осознанного этического намерения: предустановленные представления о божественном действии, развёрнутые в легенду, образуют продукт, аналогичный идее божественных черт и симметрии, воплощённых в бронзовой или мраморной статуе.
Но не только общий тип и атрибуты богов способствовали активизации мифотворческих склонностей. Обряды и церемонии, составляющие культ каждого бога, а также детали его храма и его местоположения были плодотворным источником мифов о его подвигах и страданиях, которые для слушавших их людей служили заменой прошлой истории. Экзегеты, или местные проводники и толкователи, принадлежавшие каждому храму, сохраняли и пересказывали любопытным чужестранцам эти традиционные повествования, придававшие даже мельчайшим деталям богослужения определённое достоинство. Из этого обширного запаса материала поэты извлекали отдельные сборники, такие как «Причины» (Αἴτια) Каллимаха, ныне утраченные, или «Фасты» Овидия для римских религиозных древностей.[143]
Существовал обычай приносить богам в жертву только кости жертвенного животного, завернутые в жир: как возник этот обычай?[p. 63] Автор «Теогонии» Гесиода приводит историю, объясняющую это: Прометей обманул Зевса, вынудив его сделать необдуманный выбор в ту эпоху, когда боги и смертные впервые договорились о привилегиях и обязанностях (в Меконе). Прометей, покровительственный представитель человечества, разделил большого быка на две части: в одну сторону он положил мясо и внутренности, завернутые в сальник и прикрытые шкурой; в другую – кости, обёрнутые жиром. Затем он предложил Зевсу выбрать, какую из двух частей боги предпочли бы получать от людей. Зевс «обеими руками» выбрал и взял белый жир, но пришёл в ярость, обнаружив, что под ним скрываются лишь кости.[144] Тем не менее выбор богов был теперь безвозвратно сделан: им полагалась только эта часть жертвенного животного – кости и белый жир; и существующая практика таким образом правдоподобно объясняется.[145] Я привожу этот пример как один из тысячи, иллюстрирующих происхождение легенды из религиозных обрядов. По народному убеждению, событие, описанное в легенде, было реальной причиной возникновения обычая; но когда мы применяем строгую критику, мы вынуждены признать, что событие существовало лишь в виде повествования, а сама легенда в большинстве случаев была порождена обрядом – тем самым обращая предполагаемый порядок возникновения.
[p. 64]При рассмотрении греческих мифов в целом удобно разделить их на те, что относятся к богам, и те, что относятся к героям, в зависимости от того, кто из них является главным действующим лицом. Первый класс яснее, чем второй, демонстрирует своё истинное происхождение, вырастая из веры и чувств, без какой-либо необходимой основы – ни фактической, ни аллегорической; более того, они напрямую проясняют религию греков, столь важную часть их характера как народа. Но на самом деле большинство мифов представляют нам богов, героев и людей, взаимодействующих друг с другом, и богатство греческой мифической литературы проистекает из бесконечного разнообразия комбинаций, открывающихся благодаря этому: сначала за счёт трёх типов – Бог, Герой и Человек, затем благодаря строгой последовательности, с которой разрабатывается каждый отдельный класс и характер. Теперь мы проследим вниз по течению мифического времени, которое начинается с богов, к героическим легендам, или тем, что в основном касаются героев и героинь; ибо последние были в легендах столь же важны, как и первые.
Глава II. Легенды о героях и людях.
Гесиодова теогония не дает никакого описания сотворения человека, да и, по-видимому, такая идея не была распространена в греческих легендарных преданиях, которые обычно возводили нынешних людей через последовательные поколения к какому-то первобытному предку, самому возникшему из земли, соседней реки или горы, либо от бога, нимфы и т. д. Однако поэт гесиодовых «Трудов и дней» изложил нам рассказ о происхождении человеческого рода, задуманный в совершенно ином духе – более созвучном тому трезвому и меланхолическому этическому настроению, которое царит в этой поэме.[146] [стр. 65]
Сначала (говорит он) олимпийские боги создали золотой род – людей добрых, совершенных и счастливых, живших за счет щедрот земли, в покое и безмятежности, подобно самим богам: они не знали ни болезней, ни старости, а их смерть была подобна тихому сну. После смерти они, по воле Зевса, стали земными демонами-хранителями, незримо наблюдающими за делами людей, с царственной привилегией наделять их богатством и отмечать добрые и дурные поступки.[147]
Затем боги создали серебряный род – несхожий и куда худший, как умом, так и телом, чем золотой. Люди этого рода были безрассудны и злобны друг к другу, а к бессмертным богам питали презрение, отказываясь воздавать им почести или жертвы. Разгневанный Зевс погреб их в земле: но и там они пользуются второстепенной славой как Блаженные подземного мира.[148]
В-третьих, Зевс создал медный род, совершенно отличный от серебряного. Они были сделаны из твердого ясеня, воинственны и ужасны; обладали невероятной силой и несокрушимым духом, а хлеб не сеяли и не ели. Их оружие, дома и орудия были все из меди: железа тогда не было. Этот род, вечно сражаясь, погиб от рук друг друга, вымер и сошел в Аид без имени и привилегий.[149] [стр. 66]
Затем Зевс создал четвертый род, куда более справедливый и лучший, чем предыдущий. Это были Герои или полубоги, сражавшиеся под Троей и Фивами. Но и этот славный род исчез: одни погибли в войнах, другие были перенесены Зевсом в более счастливую долю на острова Блаженных. Там они живут в мире и довольстве под властью Кроноса, собирая трижды в год дары земли, произрастающие сами собой.[150]
Пятый род, пришедший после Героев, – железный: это тот род, к которому принадлежит сам поэт, и горько он сожалеет об этом. Он находит своих современников злобными, бесчестными, несправедливыми, неблагодарными, склонными к клятвопреступлениям, пренебрегающими как узами родства, так и велениями богов: Немесида и Эйдос (Нравственное Самоосуждение) покинули землю и вернулись на Олимп. Как же сильно он желал бы родиться либо раньше, либо позже![151] Этот железный род обречен на постоянную вину, заботу и страдания, с небольшой примесью добра; но придет время, и Зевс положит ему конец. Поэт не решается предсказать, какой род придет ему на смену.
Такова последовательность различных родов людей, которую Гесиод (или автор «Трудов и дней») перечисляет как существовавшие вплоть до его времени. Я привожу её как есть, не слишком доверяя различным толкованиям, предлагаемым критиками. Она выделяется во многих отношениях из общего тона и настроения греческих легенд: более того, последовательность родов не является ни естественной, ни однородной – героический род не имеет металлического обозначения и не занимает законного места в непосредственном продолжении медного. Да и представление о демонах не согласуется ни с Гомером, ни с гесиодовой теогонией. У Гомера едва ли есть различие между богами и демонами, тогда как боги[стр. 67] описываются как странствующие по городам людей в разных обличьях, чтобы наблюдать за добрыми и злыми деяниями.[152] Но в рассматриваемой поэме различие между богами и демонами родовое. Последние – незримые обитатели земли, остатки некогда счастливого золотого рода, созданного олимпийскими богами: остатки второго, серебряного рода – не демоны и не жители земли, но они всё же пользуются почетным посмертным существованием как Блаженные подземного мира. Тем не менее гесиодовы демоны никоим образом не являются творцами или пособниками зла: напротив, они составляют незримую стражу богов, призванную обуздывать дурное поведение в мире.
Мне кажется, в этом пятеричном последовании земных родов, изложенном автором «Трудов и дней», можно усмотреть слияние двух линий мысли, не вполне согласных друг с другом, но сосуществующих в сознании поэта. Направление его поэмы глубоко дидактическое и этическое: хотя он проникнут несправедливостью и страданиями, омрачающими жизнь человеческую, он тем не менее стремится утвердить – и в себе, и в других – убеждение, что в целом справедливый и трудолюбивый человек преуспеет,[153] и подробно излагает уроки практической мудрости и добродетели. Это этическое чувство, определяющее его взгляд на настоящее, направляет и его воображение относительно прошлого. Ему приятно перекинуть мост через пропасть между богами и выродившимся человеком, предположив существование прежних родов – первого совершенно чистого, второго худшего, чем первый, и третьего ещё более испорченного; а также показать, как первый род перешел через тихую смерть-сон в славное бессмертие; как второй род был настолько порочен, что Зевс погреб его в подземном мире, но всё же оставил ему некоторую долю почета; тогда как третий был столь неистово буен, что истребил себя взаимной враждой, не оставив ни имени, ни какой-либо славы. Представление о золотом роде, превращающемся после смерти в добрых демонов-хранителей (которое некоторые считают заимствованным из сравнения с восточными ангелами), является для поэта, с одной стороны, сближением этого рода с богами, а с другой – способом создать тройственную градацию посмертного существования, соответствующую характеру каждого рода при жизни. Названия золота и серебра, данные первым двум родам, оправдываются сами собой, подобно тем, что дал Симонид Аморгский и Фокилид различным женским характерам, сравнивая их с собакой, пчелой, кобылой, ослом и другими животными; а эпитет «медный» специально объясняется материалом, который воинственный третий род так обильно использовал для своего оружия и прочих орудий.

