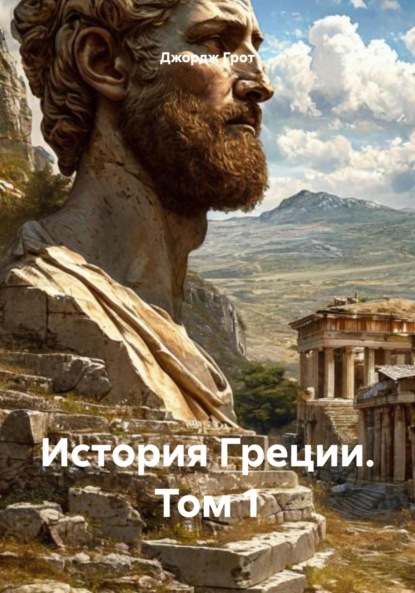
Полная версия:
История Греции. Том 1
Как Гесиод расширил гомеровский ряд богов, добавив династию Урана перед династией Кроноса, так и орфическая теогония[стр. 17] продолжила его ещё дальше.[35] Сначала появился Хронос, или Время, как персонифицированная сущность, за ним – Эфир и Хаос, из которых Хронос произвёл огромное мировое яйцо. Из него со временем возник перворожденный бог Фанет, или Метида, или Эрикепай, двуполое существо, которое впервые создало Космос, или мировую систему, и которое несло в себе семя богов. Он породил Нюкту, от которой произошли Уран и Гея, а также Гелиоса и Селену.[36]
От Урана и Геи произошли три Мойры, или Судьбы, три Сторуких и три Киклопа: последние были сброшены Ураном в Тартар из-за предчувствия, что они лишат его власти. В отместку за это обращение с её сыновьями, Гея самостоятельно породила четырнадцать Титанов – семь мужских и семь женских: первые – Кой, Крий, Форкий, Кронос, Океан, Гиперион и Япет; вторые – Фемида, Тефида, Мнемосина, Тейя, Диона, Феба и Рея.[37] Они получили имя Титанов, потому что отомстили Урану за изгнание своих старших братьев. Шесть Титанов во главе с самым могущественным из них – Кроносом – объединились против Урана, оскопили и свергли его: лишь Океан остался в стороне и не участвовал в нападении. Кронос взял власть и установил своё правление на Олимпе, в то время как Океан остался независимым, хозяином своего божественного потока.[38] Правление[стр. 18] Кроноса было периодом спокойствия и счастья, а также необычайного долголетия и силы.
Кронос и Рея породили Зевса и его братьев и сестёр. Сокрытие и спасение младенца Зевса, а также проглатывание камня Кроносом излагаются в орфической теогонии в основном так же, как у Гесиода, но в менее простом и более мистифицированном стиле. Зевс скрывается в пещере Нюкты, месте самого Фанета, вместе с Идой и Адрастеей, которые вскармливают и охраняют его, в то время как вооружённые пляски и громкие звуки инструментов Куретов заглушают его детский плач, чтобы он не достиг ушей Кроноса. Возмужав, Зевс устраивает ловушку для отца, опьяняет его мёдом и, застигнув его в глубоком сне, заковывает и оскопляет.[39] Так, возведённый на вершину власти, он проглатывает и поглощает в себя Метиду, или Фанета, со всеми предсуществующими элементами вещей, а затем заново порождает всё сущее из собственного существа и в соответствии со своими божественными замыслами.[40] Настолько скудны сохранившиеся фрагменты этой системы, что нам трудно проследить отдельных богов и богинь, произошедших от Зевса[стр. 19], за пределами Аполлона, Диониса и Персефоны – последняя при этом отождествляется с Артемидой и Гекатой.
Но есть одна новая персона, порождённая Зевсом, которая занимает особое место в орфической теогонии, и чьи приключения составляют одну из её отличительных черт. Загрей, «рогатое дитя», – сын Зевса от его собственной дочери Персефоны: он – любимец отца, дитя великих обещаний, и, если бы он вырос, ему было суждено унаследовать верховную власть, а также право владеть молнией. В младенчестве он восседает на троне рядом с Зевсом под охраной Аполлона и Куретов. Но ревнивая Гера прерывает его путь и подстрекает Титанов против него: те, предварительно вымазав лица гипсом, подходят к нему у трона, забавляют его детское воображение игрушками и убивают мечом, пока он рассматривает своё отражение в зеркале. Затем они расчленяют его тело и варят в котле, оставляя лишь сердце, которое подбирает Афина и относит Зевсу. Тот в гневе поражает Титанов молнией, низвергая их в Тартар, а Аполлону поручает собрать останки Загрея и похоронить их у подножия горы Парнас. Сердце отдают Семеле, и Загрей рождается заново от неё в образе Диониса.[41] [стр. 20]
Такова ткань буйных фантазий, объединённых под названием орфической теогонии, и, судя по всему, именно в таком виде её читали Платон, Исократ и Аристотель. Видно, что она основана на гесиодовской теогонии, но, в соответствии с общей экспансивной тенденцией греческих легенд, в неё добавлено много нового: у Гомера у Зевса один предшественник, у Гесиода – два, а у Орфея – четыре.
Гесиодовская теогония, хотя и создана позже «Илиады» и «Одиссеи», относится к самому раннему периоду того, что можно назвать греческой историей, и определённо старше 700 г. до н. э. Она, по-видимому, была широко распространена в Греции и, будучи одновременно древней и краткой, служила для широкой публики основным источником сведений о божественной древности. Орфическая теогония принадлежит к более позднему времени и содержит гесиодовские идеи и персонажей, расширенные и мистически переработанные: её стиль изложения был менее популярен, больше подходил для размышлений особой секты, чем для вкуса случайной аудитории, и, соответственно, получил хождение в основном среди чисто умозрительных мыслителей.[42] Однако среди большинства последних она пользовалась бо́льшим почтением и, главное, считалась более древней, чем гесиодовская. Вера в её бо́льшую древность (отвергаемую Геродотом и, по-видимому, также Аристотелем[43]), как и уважение к её содержанию, росла в эпоху эллинизма и в угасающие века язычества, достигнув максимума у неоплатоников III–IV вв. н. э.: как христианские критики, так и защитники язычества рассматривали её как самый древний и почтенный свод греческой веры. Пиндар прославляет Орфея как певца и спутника аргонавтов; Орфей и Музей, а также Памф и Олен, великие предполагаемые авторы теогонических, мистических, оракульных и пророческих стихов и гимнов, обычно считались греческими литераторами более древними, чем Гесиод или Гомер:[44] такое же мнение долгое время преобладало и среди современных учёных, пока сравнительно недавно не было опровергнуто. Теперь на достаточных основаниях доказано, что произведения, приписывавшиеся этим именам, в большинстве своём созданы поэтами александрийской эпохи и даже позже – в христианскую эру; а самые ранние из них, послужившие основой для позднейших добавлений, относятся к периоду гораздо более позднему, чем Гесиод, – вероятно, к веку, предшествовавшему времени Ономакрита (610–510 гг. до н. э.). Однако кажется несомненным, что и Орфей, и Музей были известными именами уже во времена Ономакрита; и Павсаний прямо утверждает, что последний сам был автором самого примечательного и характерного мифа орфической теогонии – расчленения Загрея Титанами и его воскрешения в образе Диониса.[45]
Имена Орфея и Мусея (а также Пифагора,[46] если рассматривать одну из сторон его личности) представляют важные факты в истории греческого сознания – постепенное проникновение фракийских, фригийских и египетских религиозных обрядов и чувств, а также растущее распространение особых мистерий,[47][стр. 23] систем религиозного очищения и оргий (я решаюсь использовать это слово в английской форме, хотя в его первоначальном значении не было того оттенка излишества, который впоследствии к нему прикрепился) в честь какого-либо определённого бога – отличных как от общественных, так и от родовых обрядов древней Греции, – проводимых отдельно от основного круга граждан и доступных лишь после определённой подготовки и посвящения, а иногда даже запрещённых для обсуждения в присутствии непосвящённых под страхом сурового божественного наказания.
Иногда такие добровольные объединения принимали форму постоянных братств, связанных периодическими обрядами, а также аскетическими обетами: так, «Орфическая жизнь» (как её называли) или устав Орфического братства, среди прочих предписаний, частично произвольных, частично воздержанных, полностью запрещал употребление животной пищи, а в определённых случаях – ношение шерстяной одежды.[48] Великое религиозно-политическое братство пифагорейцев, оказавшее столь сильное влияние на жизнь италийских городов, было одним из многих проявлений этой общей тенденции, резко контрастирующей с простым, открытым и эмоциональным культом гомеровских греков.
Праздники во время посева и жатвы, на сборе винограда и открытии нового вина, несомненно, существовали у греков с самых древних времён; последний, в частности, был временем необычайного веселья. Однако в гомеровских поэмах Дионис и Деметра, покровители виноградников и хлебных полей, упоминаются редко и явно занимают гораздо меньше места в воображении поэта по сравнению с другими богами; они не играют заметной роли даже в «Теогонии» Гесиода. Но в период между Гесиодом и Ономакритом религиозное сознание Греции претерпело такую революцию, что оба этих божества выдвинулись на первый план. Согласно орфическому учению, Загрей, сын Персефоны, предназначен стать преемником Зевса, и хотя насилие титанов прерывает эту судьбу,[стр. 24] всё же, даже возродившись после расчленения под именем Диониса, он становится соправителем и равным своему божественному отцу.
Эта примечательная перемена, произошедшая в VI и частично в VII веке до нашей эры, может быть связана с влиянием контактов с Египтом (который стал полностью открыт для греков лишь около 660 г. до н. э.), а также с Фракией, Фригией и Лидией. Отсюда пришли новые религиозные идеи и чувства, которые в основном связались с образами Диониса и Деметры. Греки отождествили этих двух богов с великими египетскими Осирисом и Исидой, так что заимствования из египетского культа последних естественным образом перешли к их греческим аналогам.[49] Более того, культ Диониса (под каким именно именем – точно не установлено) был исконно фракийским,[50] как и культ Великой Матери во Фригии и Лидии – вместе с теми бурными экстазами, проявлениями временного исступления и громкими звуками инструментов, которые впоследствии стали характерны для него в Греции. Великие мастера игры на флейте, а также дифирамб[51] и вообще вся музыкальная система, связанная с культом Диониса, которая[стр. 25] так резко контрастировала со спокойной торжественностью пеана, обращённого к Аполлону, – всё это изначально было фригийским.
Из всех этих стран в греческий культ проникали новшества, неизвестные людям гомеровской эпохи, и среди них есть одно, заслуживающее особого внимания, поскольку оно знаменует зарождение нового класса идей в их теологии. Гомер упоминает множество людей, виновных в умышленном или неумышленном убийстве и вынужденных либо уйти в изгнание, либо выплатить денежную компенсацию, но ни разу не описывает, чтобы кто-либо из них получал или требовал очищения от этого преступления.[52] Однако в послегомеровское время очищение от пролития крови стало считаться необходимым: виновный рассматривался как непригодный для общества людей или поклонения богам, пока не проходил его, и для этого предписывались особые обряды. Геродот сообщает, что обряд очищения был одинаковым у лидийцев и греков:[53] мы знаем, что он не был частью ранней религии последних, и, возможно, разумно предположить, что они заимствовали его у первых. Самый древний известный нам случай искупления за убийство содержался в эпической поэме милетца Арктина,[54] где Одиссей очищает Ахилла за убийство Ферсита; несколько других примеров встречаются в более позднем или гесиодовском эпосе – Геракл, Пелей, Беллерофонт, Алкмеон, Амфиктион, Пемандр, Триоп, – откуда они, вероятно, через логографов перешли к Аполлодору, Диодору и другим.[55] Очищение убийцы изначально совершалось не руками жреца или особо освящённого человека, а вождя или царя, который проводил соответствующие обряды, как описано у Геродота в его трогательном рассказе о Крёзе и Адрасте.
Идея особой скверны преступления, а также необходимости и достаточности предписанных религиозных обрядов для её устранения, таким образом, утвердилась в греческой практике после времён Гомера. Особые обряды или оргии, составленные или собранные Ономакритом, Метаном[56] и другими людьми, отличавшимися необычайной набожностью, основывались на схожем образе мышления и отвечали тем же душевным потребностям. Они представляли собой добровольные религиозные проявления, надстроенные над старыми публичными жертвоприношениями, которые совершал царь или вождь от имени всего общества, а отец – на семейном очаге. Эти обряды детально определяли богослужение, необходимое для умиротворения или ублажения бога, к которому они обращались, дабы верующие, прошедшие через них, обрели его благословение и защиту в этой жизни или в будущей. Точное исполнение богослужения во всех его особенностях считалось обязательным, и поэтому жрецы или иерофанты, единственные знавшие ритуал, приобретали господствующее положение.[57]
Вообще говоря, эти[стр. 27] особые оргии получали распространение и влияние в периоды бедствий, болезней, общественных катастроф и опасностей, религиозного ужаса и отчаяния, которые, судя по всему, случались слишком часто.
Умы людей склонялись к мысли, что их страдания вызваны гневом какого-либо из богов, и, видя, что обычные жертвоприношения и поклонение не обеспечивают им защиты, они хватались за новые предложения, сулившие возвращение божественной милости.[58] Такие предложения чаще всего копировались – целиком или частично – из религиозных обрядов какого-нибудь иностранного места или другой части эллинского мира; и таким образом многие новые секты или добровольные религиозные братства, обещавшие успокоить смятенную совесть и примирить больных или страдающих с оскорблёнными богами, приобретали постоянное положение и значительное влияние. Обычно они находились под надзором наследственных семей жрецов, которые совершали обряды посвящения и очищения для всех желающих – никто, прошедший предписанные церемонии, не исключался. Во многих случаях такие обряды попадали в руки шарлатанов, предлагавших свои услуги богачам и дискредитировавших своё ремесло как навязчивой корыстью, так и чрезмерными обещаниями:[59] иногда цена снижалась[стр. 28], чтобы сделать их доступными для бедных и даже рабов.
Но широкое распространение и множество добровольных участников этих церемоний доказывают, насколько они соответствовали духу времени и как высоко ценились – уважение, которое наиболее известные учреждения, такие как Элевсин и Самофракия, сохраняли на протяжении нескольких веков. Визит критянина Эпименида в Афины – во времена Солона, в период глубочайшего беспокойства и страха перед гневом богов – иллюстрирует умиротворяющий эффект новых оргий[60] и обрядов отпущения грехов, когда они предписывались человеком, пользовавшимся благосклонностью богов и считавшимся сыном нимфы.
Предполагаемая Эритрейская Сивилла и древнейший сборник Сивиллиных пророчеств,[61] впоследствии так сильно размножившихся и интерполированных, а также (согласно греческому обычаю) приписываемых эпохе ещё более ранней, чем Гомер, по-видимому, относятся к периоду ненамного позднее Эпименида. Другие пророческие стихи, такие как стихи Бакида, хранились в Афинах и других городах: VI век до христианской эры был богат подобными религиозными проявлениями.
Среди особых обрядов и оргий, охарактеризованных выше, наибольшей общеэллинской известностью пользовались те, что были связаны с Идейским Зевсом на Крите, с Деметрой в Элевсине, с Кабирами на Самофракии и с Дионисом в Дельфах[стр. 29] и Фивах.[62] Их значительное сходство проявляется в том, как они бессознательно смешиваются и путаются в умах различных авторов: сами древние исследователи не могли отличить один от другого, и нам остаётся лишь смириться с тем же неведением. Но мы видим достаточно, чтобы убедиться в общем факте: в течение полутора веков между открытием Египта для греков и началом их борьбы с персидскими царями старая религия была сильно разбавлена заимствованиями из Египта, Малой Азии[63] и Фракии.
Обряды становились всё более неистовыми и экстатическими, демонстрируя крайнюю степень возбуждения – как телесного, так и душевного; мифы одновременно делались грубее, трагичнее и менее трогательными. Ярче всего это безумие проявлялось среди женщин, чья религиозная впечатлительность часто оказывалась совершенно неуправляемой,[64] и которые повсюду имели свои собственные периодические обряды, отдельно от мужчин – более того, в случае колонистов, особенно малоазийских, женщины изначально были местными уроженками и потому во многом сохраняли неэллинские обычаи и чувства.[65]
Бог Дионис,[66] которого легенды описывали как облачённого в женские одежды и ведущего толпу исступлённых женщин, внушал временный экстаз, и те, кто противился этому вдохновению, считались ослушниками его воли, наказываемыми либо особыми карами, либо душевными муками; тогда как те, кто полностью отдавался этому чувству в положенное время и с принятыми обрядами, удовлетворяли его требования и верили, что обеспечили себе избавление от подобных тревог в будущем.[67]
Толпы женщин, облачённых в оленьи шкуры и несущих освящённые тирсы, стекались в пустынные места Парнаса, Киферона или Тайгета во время священного трёхлетнего периода, проводили там ночь с факелами и предавались проявлениям безумного восторга – танцам и шумным призывам бога: говорили, что они разрывали животных на части, пожирали сырое[стр. 31] мясо и наносили себе раны, не чувствуя боли.[68] Мужчины поддавались схожему порыву, устраивая шумные шествия по улицам, звеня кимвалами и бубнами и неся изображение бога.[69]
Стоит отметить, что афинские женщины никогда не практиковали эти периодические горные странствия, столь распространённые среди остальных греков: у них были свои женские празднества Фесмофорий,[70] мрачные по характеру и сопровождаемые постом, а также отдельные собрания в храмах Афродиты, но без каких-либо чрезмерных или непристойных проявлений.
Государственный праздник Дионисий в Афинах отмечался театральными представлениями, и обильный урожай афинской трагедии и комедии был собран под его сенью.
Обряды куретов на Крите, изначально представлявшие собой воинственные танцы в честь Идейского Зевса, по-видимому, также позаимствовали из Азии столько неистовства, самобичевания и мистицизма, что в конце концов полностью смешались с фригийскими корибантами, почитателями Великой Матери; хотя, кажется, греческая сдержанность всегда останавливалась перед необратимым самооскоплением Аттиса.
Влияние фракийской религии на греческую нельзя проследить в деталях, но содержавшиеся в ней обряды носили жестокий и неистовый характер, подобно фригийским, и воздействовали на Элладу в том же общем направлении, что и последние. То же можно сказать и о египетской религии, которая в данном случае оказалась более действенной, поскольку все образованные греки естественно стремились посетить чудеса на берегах [с. 32] Нила; мощное впечатление, произведённое на них, подтверждается множеством свидетельств, но особенно интересным рассказом Геродота. Египетские обряды были одновременно более распущенными и более избыточными в проявлении как радости, так и горя, чем греческие;[71] но ещё большее различие проистекало из необычайной власти, обособленного образа жизни, скрупулёзных предписаний и сложной организации жречества. Церемонии Египта были многочисленны, но легенды, связанные с ними, создавались жрецами и, как правило, по-видимому, были известны только им: во всяком случае, их не предполагалось публично обсуждать даже благочестивым людям. Это были «священные сказания», которые считалось кощунством публично упоминать, и именно благодаря этому запрету они ещё сильнее запечатлевались в умах греческих посетителей, которые их слышали. Таким образом, элемент тайны и мистического молчания – чуждый Гомеру и лишь слабо намеченный у Гесиода – если и не был изначально заимствован из Египта, то по крайней мере получил оттуда наибольший импульс и распространение. Характер самих легенд естественно изменился под влиянием этого перехода от публичности к секретности: раскрываемые тайны должны были быть такими, чтобы своим содержанием оправдывать запрет на публичное разглашение. Вместо того чтобы быть приспособленными, подобно гомеровским мифам, к всеобщему сочувствию и живому интересу толпы слушателей, они должны были производить впечатление своей трагической, скорбной, экстравагантной или ужасающей природой событий.[72] Такая тенденция, которая кажется объяснимой и вероятной даже на общих основаниях, в данном конкретном случае стала ещё более определённой из-за грубого вкуса египетских жрецов. То, что какая-либо скрытая доктрина, религиозная или философская, была связана с мистериями или содержалась в священных сказаниях,[с. 33] никогда не было доказано и в высшей степени маловероятно, хотя многие учёные мужи утверждали обратное.
Геродот, кажется, считал, что культ и обряды Диониса в целом были заимствованы греками из Египта, принесены Кадмом и переданы им Мелампу; последний, согласно Гесиодовому «Каталогу», исцелил дочерей Прета от умственного расстройства, которым их поразил Дионис за отвержение его ритуала. Он вылечил их, введя вакхическую пляску и экстатическое исступление: этот мифический эпизод является древнейшим упоминанием дионисийских торжеств, представленных в том же характере, какой они имеют у Еврипида. Вообще Геродот склонен слишком широко применять теорию заимствования из Египта к греческим институтам: оргии Диониса изначально не были оттуда заимствованы, хотя, возможно, значительно видоизменились под влиянием связей как с Египтом, так и с Азией. Замечательный миф, сочинённый Ономакритом о расчленении Загрея, был основан на очень похожем египетском сказании о теле Осириса, которого отождествляли с Дионисом:[73] он также соответствовал безудержной ярости вакханок во время их временного исступления, находившего ещё более ужасное выражение в мифе о Пенфее – разорванном на части собственной матерью Агавой во главе её спутниц во время церемонии, как нарушителя женских обрядов и насмешника над богом.[74] Пассаж в «Илиаде» (подлинность которого оспаривалась, но даже как интерполяция он должен быть древним)[75] также повествует о том, как Ликург был ослеплён Зевсом за то, что прогнал бичом «нянь безумного Диониса» и заставил самого бога броситься в море, чтобы найти [с. 34] убежище в объятиях Фетиды: а тот факт, что Дионис так часто в своих мифах сталкивается с сопротивлением и наказывает строптивых, указывает на то, что его культ в экстатической форме был поздним явлением и вводился не без трудностей. Мифический фракиец Орфей был прикреплён как эпоним к новой секте, которая, по-видимому, совершала обряды Диониса с особой тщательностью, скрупулёзностью и рвением, помимо соблюдения различных правил в отношении пищи и одежды. По мнению Геродота, эти правила, как и пифагорейские, были заимствованы из Египта. Но так это или нет, орфическое братство само по себе является и свидетельством, и причиной возросшей значимости культа Диониса, что, впрочем, подтверждается великими драматическими поэтами Афин.
Однако гомеровские гимны представляют нам религиозные идеи и легенды греков более раннего периода, когда экстатические и мистические тенденции ещё не достигли полного развития. Хотя они не относятся к той же эпохе или тому же автору, что «Илиада» или «Одиссея», они в определённой степени продолжают то же течение чувств и тот же мифический тон и колорит, что и эти поэмы, – демонстрируя мало свидетельств египетских, азиатских или фракийских примесей. Разница разительна между богом Дионисом, каким он предстаёт в гомеровском гимне и в «Вакханках» Еврипида. Гимнограф описывает его стоящим на морском берегу в облике прекрасного и богато одетого юноши, когда внезапно появляются тирренские пираты: они хватают его, связывают и тащат на корабль. Но путы сами собой разрываются, освобождая бога. Перепуганный кормчий указывает товарищам, что они по неведению подняли руку на бога – возможно, самого Зевса, Аполлона или Посейдона. Он умоляет их остановиться и почтительно вернуть Диониса на берег, чтобы тот в гневе не обрушил на корабль ветер и ураган; но команда насмехается над его страхами, и Диониса увозят в море на корабле под полными парусами. Вскоре чудесные события подтверждают и его присутствие, и его силу: вокруг корабля сам собой начинает течь сладко пахнущий вино, парус и мачта покрываются виноградными лозами и плющом, а уключины – гирляндами.[с. 35] Перепуганная команда, теперь слишком поздно, умоляет кормчего направить корабль к берегу и теснится вокруг него на корме в поисках защиты. Но их гибель близка: Дионис принимает облик льва – рядом с ним появляется медведь – и с громким рёвом бросается на капитана, в то время как матросы в ужасе прыгают за борт и превращаются в дельфинов. Остаётся только благоразумный и благочестивый кормчий, к которому Дионис обращается с словами любовного ободрения, открывая своё имя, происхождение и достоинство.[76]
Этот гимн, возможно, созданный на наксосском празднике Диониса и относящийся ко времени, предшествовавшему утверждению дифирамбического хора как основного способа воспевания славы этого бога, проникнут духом, совершенно отличным от духа Вакхических Телет, или особых обрядов, которые так обильно восхваляют вакханки у Еврипида – обрядов, принесённых из Азии самим Дионисом во главе фиаса, или толпы восторженных женщин, – возбуждавших временное безумие в фиванках, – недоступных никому, кроме посвящённых, – и влекущих за собой трагические последствия для всех, кто противится богу.[77] Вакхические Телеты и вакхическое женское исступление были, как изображает их Еврипид, заимствованиями извне, привитыми к веселью изначальных греческих Дионисий; они были заимствованы, скорее всего, из нескольких источников и проникли через несколько[стр. 36] каналов, одним из вариантов которых было орфическое братство. Страбон приписывает последнему фракийское происхождение, считая Орфея, Мусея и Евмолпа фракийцами.[78] Любопытно наблюдать, как в «Вакханках» Еврипида попеременно выступают две различные и даже противоречащие друг другу идеи Диониса: иногда старая греческая идея весёлого и радующего бога вина – но чаще новая, привнесённая идея ужасающего и неодолимого бога, лишающего разума, чью ярость можно утолить лишь добровольным, хотя и временным, подчинением. В фанатичном порыве, вдохновлявшем почитателей азиатской Реи или Кибелы, либо фракийской Котис, не было ничего от спонтанной радости; это было священное безумие, во время которого душа казалась отданной во власть внешнего стимула, сопровождаемого сверхъестественной силой и временным ощущением могущества,[79] – совершенно отличное от безудержного веселья изначальных Дионисий, какими мы видим их в сельских демах Аттики или в весёлом городе Таренте. Правда, между ними была некоторая аналогия, поскольку,[стр. 37] согласно религиозным воззрениям греков, даже спонтанная радость виноградного праздника даровалась милостью Диониса и оживлялась его присутствием. Именно на этой аналогии строились создатели вакхических оргий, но от этого подлинный характер старых греческих Дионисий не менее искажался.

