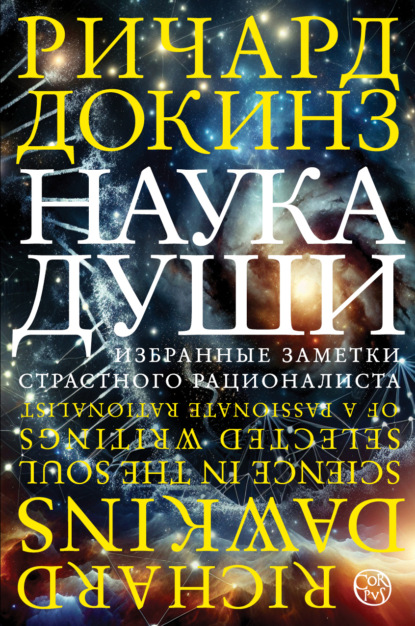
Полная версия:
Наука души. Избранные заметки страстного рационалиста
Инженеров и архитекторов никогда не просят строить нерушимые здания и непробиваемые стены. Вместо этого им дают финансовую смету и просят, оставаясь в ее рамках, сделать все максимально хорошо в соответствии с тем или иным критерием. Или говорят: «Мост должен выдерживать десять тонн и ураганы втрое более сильные, чем те, что когда-либо наблюдались в данном ущелье. Итак, спроектируйте наименее дорогостоящий мост с учетом наших технических условий». Коэффициенты безопасности в инженерии подразумевают денежную оценку человеческой жизни. Проектировщики гражданских авиалайнеров позволяют себе меньшие риски, чем это допустимо в военной авиации. Оснащение самолетов и наземные средства управления стали бы безопаснее, если бы в них было вложено больше денег. В системы контроля можно было бы ввести бо́льшую избыточность, количество летных часов, необходимое пилоту для получения лицензии на перевозку пассажиров, – увеличить, а проверку багажа – сделать более строгой и длительной.
Почему мы не предпринимаем этих шагов, делающих жизнь безопаснее? Причина в значительной мере связана с их стоимостью. Количество денег, времени и усилий, которые мы готовы потратить на защиту людей, велико, но не бесконечно. Нравится нам это или нет, приходится исчислять ценность человеческой жизни деньгами. На ценностной шкале большинства людей жизнь человека дороже жизни любого другого животного, но и стоимость жизни животного не равна нулю. Увы, как можно судить по газетным репортажам, люди ценят жизнь представителей своей расы выше человеческой жизни в целом. В военное время как абсолютная, так и относительная оценка стоимости человеческой жизни меняются самым решительным образом. Люди, считающие, будто измерять ценность человеческой жизни деньгами безнравственно, и с волнением в голосе заявляющие, что жизнь каждого человека бесценна, витают в облаках.
Дарвиновский отбор тоже занимается оптимизацией с учетом экономических ограничений, и можно сказать, что в этом смысле он тоже обладает системой ценностей. Как заметил Джон Мейнард Смит, «если бы не было никаких ограничений в возможностях, то наилучший фенотип обладал бы бессмертием, неуязвимостью для хищников, откладывал бы яйца в бесконечных количествах и так далее».
Николас Хамфри развивает эти доводы при помощи другой инженерной аналогии.
Рассказывают[39], будто бы Генри Форд однажды поручил исследовать автомобильные свалки с целью выяснить, какие детали «Форда» модели T никогда не ломаются. Инспекторы вернулись с отчетами о практически любых мыслимых поломках: оси, тормоза, поршни – все выходило из строя. Но обращало на себя внимание одно важное исключение: шкворни отданных на слом машин неизменно могли бы служить еще долгие годы. Форд рассудил с беспощадной логикой, что шкворни модели T слишком хороши для выполняемой ими задачи, и распорядился в дальнейшем использовать шкворни с менее высокими характеристиками… Наверняка природа – не менее аккуратный экономист, чем Генри Форд.
Хамфри применял свои рассуждения к эволюции разума, но они точно так же подойдут и к костям, и к чему угодно еще. Давайте закажем исследование гиббонов с целью найти у них кости, которые служат безотказно. И вот мы узнаем, что любая кость в организме гиббона время от времени ломается – за одним важным исключением. Предположим (весьма неправдоподобно), что такой никогда не ломающейся костью окажется бедро. Генри Форд не колебался бы: в дальнейшем бедренные кости изготавливались бы с менее высокими характеристиками.
Согласился бы с таким решением и естественный отбор. Особи с чуть более тонкими бедренными костями, направляющие сэкономленные материалы на прочие нужды – например, на укрепление других костей, дабы уменьшить вероятность их поломки, – будут выживать лучше. Или же самки могли бы добавить вымытый из толщи бедренных костей кальций в молоко, повысив таким образом выживание своих детенышей, а заодно и генов, обусловивших эту расчетливость.
Идеалом (пусть и упрощенным) машины или животного был бы такой механизм, чьи детали изнашивались бы все одновременно. Если какая-то одна деталь систематически остается способной служить еще долгие годы, в то время как все остальные уже вышли из строя, значит, цена ее неоправданно высока. Материалы, уходящие на ее изготовление, следует перенаправить другим частям. Если же какая-то одна деталь систематически изнашивается раньше всего остального – значит, ее качество неоправданно низкое. Следует усовершенствовать ее, используя материалы, взятые от других деталей. Естественный отбор будет стремиться установить правило равновесия: отнимай у крепких костей и отдавай хрупким, до тех пор пока те и другие не станут одинаково прочными.
А упрощение это, поскольку не все детали организма или механизма в равной степени важны. Вот почему устройства для развлечения пассажиров ломаются в самолетах, к счастью, чаще рулей и реактивных двигателей. Гиббон, вероятно, позволил бы себе сломать скорее бедро, чем плечо. Его образ жизни рассчитан на брахиацию (перебрасывание себя с ветки на ветку при помощи рук). Гиббон со сломанной ногой может выжить и обзавестись очередным детенышем. Гиббон со сломанной рукой – вряд ли. Следовательно, упомянутое мною правило равновесия надо скорректировать: отнимай у крепких костей и отдавай хрупким, до тех пор пока не уравняешь риски для выживания, связанные с переломом той или иной части своего скелета.
Но кто увещевается в нашем правиле? Определенно не конкретный гиббон – неспособный, как мы полагаем, к компенсаторной регулировке собственных костей. В данном случае правило сформулировано абстрактно. Можно сказать, что речь в нем идет о непрерывном ряде поколений гиббонов, где каждая следующая особь приходится потомком предыдущей и делит с ней общие гены. С течением времени предки, чьи гены проводили верную калибровку костей, выживают и оставляют потомков, которые наследуют эти правильно калибрующие гены. В наблюдаемом нами мире гены будут иметь обыкновение создавать нужный баланс, поскольку они выжили, пройдя сквозь долгую череду успешных предков, не пострадавших ни от перелома костей заниженного качества, ни от убытков, понесенных за счет чрезмерно качественных костей.
Вот и все, что можно сказать про кости. Теперь нам нужно выразить в дарвинистских терминах, зачем животным и растениям ценности. Кости придают жесткость конечностям, а что же ценности делают для своих обладателей? Под ценностями я сейчас буду подразумевать те имеющиеся в головном мозге критерии, которыми животные руководствуются, выбирая, как себя повести.
Большинство объектов во вселенной ни к чему активно не стремятся. Они просто существуют. Меня же интересует стремящееся к чему-либо меньшинство: объекты, выглядящие так, будто трудятся ради какой-то цели, достигнув которой прекращают работу. Это меньшинство я буду называть ценностно ориентированными объектами. Некоторые из них – животные и растения, а некоторые – рукотворные механизмы.
Ракеты «Сайдуайндер» с тепловой головкой самонаведения, термостаты и многие физиологические системы у растений и животных регулируются по принципу положительной обратной связи. В системе задано целевое значение параметра. Отклонения от этого целевого значения распознаются, о них сообщается системе, и та меняет свое состояние в сторону уменьшения отклонений.
Другие ценностно ориентированные системы совершенствуются с опытом. С точки зрения определения ценности в обучающихся системах ключевое понятие – подкрепление. Оно может быть положительным («вознаграждение») и отрицательным («наказание»). К вознаграждениям относятся такие состояния вселенной, встреча с которыми заставляет животное воспроизводить любое совершенное перед этим действие. А к наказаниям – такие, встреча с которыми заставляет животное избегать воспроизведения предшествующего действия, в чем бы то ни заключалось.
Стимулы, воспринимаемые животными в качестве вознаграждений и наказаний, можно рассматривать как ценности. Психологи еще проводят дополнительное разграничение между первичными и вторичными стимулами (как наказаниями, так и вознаграждениями). Можно научить шимпанзе совершать работу за еду – это первичное вознаграждение. Но шимпанзе могут работать и за аналог денег – пластиковые жетоны, которые они предварительно научаются засовывать в автомат для получения пищи, и это уже вторичное вознаграждение.
Некоторые психологи-теоретики доказывали, что существует только один врожденный механизм вознаграждения («ослабление влечения», «удовлетворение потребности»), на базе коего формируются все остальные. Другие же, в том числе патриарх этологии Конрад Лоренц[40], утверждали, что дарвиновский естественный отбор наделил животных сложными встроенными механизмами подкрепления, точно определенными и специфическими для каждого вида в соответствии с уникальным образом жизни последнего.
Пожалуй, самые богатые замысловатыми подробностями примеры первичных ценностей можно найти у певчих птиц. У разных видов песня формируется по-своему. У американской певчей овсянки наблюдается поразительное сочетание этих способов. Молодые птицы, выращенные в полной изоляции, в конце концов поют нормальную песню певчей овсянки. Таким образом, в отличие, скажем, от снегирей они не учатся путем подражания. Но тем не менее они учатся. Юные певчие овсянки обучаются пению самостоятельно, щебеча случайным образом и повторяя те пассажи, которые соответствуют некоему встроенному шаблону. Этот шаблон – генетически обусловленное точное представление о том, как должна звучать певчая овсянка. Можно сказать, что информация о песне записана генами в соответствующем сенсорном участке мозга. А чтобы перенести ее в моторный отдел, требуется научение. И ощущение, предписываемое шаблоном, – это по определению награда: птица повторяет действия, которые его вызывают. Но награда очень замысловатая, детально проработанная.
Именно подобные примеры побуждали Лоренца в его витиеватых попытках разрешить старинный спор между «нативизмом» и «энвайронментализмом» использовать красочное выражение «врожденная учительница» (или «врожденный механизм обучения»). Его мысль была такова: как бы ни было важно обучение, должны существовать врожденные указания, чему именно мы станем учиться. В частности, каждому виду необходимо получить точные предписания насчет того, что воспринимать как вознаграждение, а что – как наказание. Первичные ценности, говорил Лоренц, должны были возникнуть путем дарвиновского естественного отбора.
Имея достаточно времени, мы могли бы искусственно вывести породу животных, получающих наслаждение от боли и ненавидящих удовольствие. Разумеется, это высказывание звучит как оксюморон, поэтому перефразирую: при помощи искусственного отбора мы могли бы сменить имеющиеся понятия удовольствия и боли на противоположные[41].
Животные, модифицированные таким образом, будут оснащены для выживания хуже своих диких предков. Предки были сформированы естественным отбором, чтобы испытывать наслаждение от стимулов, которые, вероятнее всего, повысят их выживаемость, и болезненно реагировать на те раздражители, что порой могут стать причиной гибели. Телесные повреждения, проколотая шкура, сломанные кости – все это воспринимается как боль, и на то есть веские дарвиновские причины. А вот наши искусственно выведенные животные радовались бы дыркам в своей шкуре, активно стремились бы к переломам собственных костей и получали бы удовольствие от таких высоких или низких температур, которые опасны для жизни.
Подобная селекция сработала бы и с человеком. Причем проводить ее можно было бы не только на предпочтения, но и на такие свойства, как черствость, сострадание, верность, лень, набожность, подлость или склонность к протестантской трудовой этике. Это заявление не столь шокирующее, каким может показаться, ведь гены не определяют поведение окончательно и бесповоротно, а просто вносят количественный вклад в статистические тенденции. Как мы уже говорили при обсуждении научных ценностей, наличие одного-единственного гена, обусловливающего одно из вышеперечисленных сложных качеств, предполагается здесь не больше, чем возможность выведения скаковых лошадей доказывает наличие строго определенного «гена скорости». А при отсутствии искусственного отбора наши с вами ценности, по-видимому, формировались под влиянием отбора естественного – действовавшего в условиях, характерных для Африки эпохи плейстоцена.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Примечания
1
Оксфордские лекции в пользу Amnesty International читаются ежегодно в помещении Шелдонского театра. Каждый год новый цикл этих лекций публикуется отдельной книгой под редакцией одного из сотрудников Оксфордского университета. В 1997 г. таким ответственным редактором был Уэс Уильямс, а выбранной темой стали «научные ценности». В числе лекторов были приглашены Дэниел Деннет, Николас Хамфри, Джордж Монбио и Джонатан Рей. Текст моего выступления – второго из семи – воспроизводится здесь.
2
Будь наводящая на многие размышления книга Сэма Харриса «Моральный ландшафт» опубликована к тому моменту, я убрал бы слово «решительно». Харрис приводит убедительные аргументы в пользу того, что существуют такие действия, не признать которые аморальными было бы порочно, – например, причинение сильных страданий – и что в выявлении подобных действий наука может играть решающую роль. Можно найти разумные доводы, доказывающие, что философское различие между сущим и должным было неоправданно раздуто. (Полные выходные данные работ, упоминаемых в текстах и сносках, вы найдете в конце этой книги.)
3
Мне нравится, как это сформулировал Стив Гулд: «В науке слово „факт“ может означать только „нечто, подтвержденное до такой степени, что отказ ему во временном одобрении будет вздорным упрямством“. Не исключаю, что завтра яблоки начнут взлетать в воздух, однако подобная вероятность не заслуживает того, чтобы на уроках физики ее рассматривали наравне с прочими темами» («Эволюция как факт и как теория» из книги «Куриные зубы и лошадиные пальцы»).
4
Преподаватели так называемых «женских исследований» подчас склонны превозносить «женские способы познания» как не уступающие логическому и научному подходам, а то и превосходящие их. Как верно заметил Стивен Пинкер, подобная болтовня оскорбляет женщин.
5
Цитируется по книге Карла Сагана «Мир, полный демонов», глава 14. См. также «Высшее суеверие» Пола Гросса и Нормана Левитта – леденящую душу подборку и справедливый разнос подобной белиберды, в том числе «культурного конструктивизма», «афроцентричной науки» и «феминистской алгебры». Не забыта там и Сандра Хардинг с ее «ошарашивающим заявлением, что Ньютоновы „Математические начала натуральной философии“ – это „пособие по изнасилованию“».
6
Цитата из трагедии У. Шекспира «Король Лир», акт 3, сцена 4, перевод Б. Л. Пастернака. – Прим. перев.
7
Слова Уинстона Черчилля, разумеется.
8
Я совместил это его выражение со знаменитыми шекспировскими словами из «Макбета» и озаглавил второй том своих мемуаров «Огарок во тьме».
9
Глава 2, перевод Л. Б. Сумм. – Прим. перев.
10
Следующий пример вполне зауряден. Однажды я разговаривал с неким адвокатом – молодой женщиной с благородными идеалами, специализирующейся на защите в уголовном суде. Она поделилась радостью: нанятый ею частный детектив нашел доказательства, которые оправдывают ее клиента, обвинявшегося в убийстве. Поздравив ее, я задал очевидный вопрос: а что бы она сделала, попадись ей бесспорные подтверждения вины клиента? Не раздумывая, она ответила, что преспокойно скрыла бы их. Пускай обвинение само ищет доказательства. А проиграют – ну и дураки. Мое возмущение не стало для нее сюрпризом, она наверняка много раз сталкивалась с подобной реакцией со стороны неюристов, и я не виню ее в том, что она не стала отстаивать свою позицию, а со вздохом перевела разговор на другую тему.
11
Я счел необходимым начать свою книгу «Расширенный фенотип» с признания, что она – «беззастенчивая пропаганда». Использование такого слова, как «беззастенчивая», указывает на мое отношение к ценностям науки. Какой юрист будет извиняться перед присяжными за «беззастенчивость» своей позиции? Пропаганда, предвзятое отстаивание интересов – это именно то, чему учат адвокатов и за что им неплохо платят. То же самое касается и политиков, и специалистов по рекламе и маркетингу. Наука – пожалуй, самая безукоризненно честная из всех профессиональных сфер.
12
Я слышал об одном лондонском физике, который дошел до того, что отказывался платить муниципальный налог, пока местный колледж дополнительного образования не прекратит рекламировать курс астрологии. А один профессор геологии из Австралии судится с неким креационистом, якобы отыскавшим Ноев ковчег и делающим на этом деньги. См. заметку Питера Покли в Daily Telegraph от 23 апреля 1997 г.
13
Мне трудно оправдать финансирование исследований предполагаемой взаимосвязи между расой и IQ. Я не из тех, кто полагает, будто интеллект нельзя измерить, а расы «небиологичны» и представляют собой «социальные конструкты» (см. великолепный разнос этой точки зрения, сделанный выдающимся генетиком Энтони Эдвардсом в статье «Генетическое разнообразие у людей: заблуждение Левонтина»). Но что за смысл исследовать возможную корреляцию между интеллектом и расой? Принимать какие бы то ни было политические решения на основании результатов таких исследований, конечно же, нельзя. Подозреваю, что на самом деле Левонтин хотел сказать именно это, и тут я с ним безоговорочно согласен. Однако, как очень часто бывает с идеологически ангажированными учеными, он предпочел выдать свою позицию за научную (и ложную), а не за политическую (и похвальную).
14
Губчатая энцефалопатия крупного рогатого скота, более известная как «коровье бешенство». Ее эпидемия в Британии, начавшаяся в 1986 г., вызвала повсеместную панику, отчасти связанную с тем, что это заболевание родственно опасной для человека болезни Крейтцфельдта – Якоба.
15
«Мир, полный демонов», глава 10, перевод Л. Б. Сумм. – Прим. перев.
16
Дж. Китс, «Ода к греческой вазе», перевод В. А. Комаровского. – Прим. перев.
17
С точки зрения вечности (лат.). – Прим. ред.
18
Глава 1, перевод О. Ю. Сивченко. – Прим. перев.
19
Глава XIV, перевод С. А. Рачинского. – Прим. перев.
20
Там же. – Прим. перев.
21
Там же. – Прим. перев.
22
Из философов, занимающихся вопросами этики, мой любимый – Джонатан Гловер, превосходный образчик того, как полезны могут быть философы, когда они стремятся к ясности без претенциозного умничанья. Откройте, например, его книгу «Причинение смерти и спасение жизней», настолько провидческую, что ей позволили выйти в свет еще до того, как достижения науки сделали ее действительно актуальной, или его «Гуманность», которая на деле оказывается хлестким обвинением в адрес всего негуманного. В книге «Выбирая детей», где он отваживается затронуть почти что табуированную тему евгеники, Гловер проявляет интеллектуальную смелость, достойную подлинной этической философии.
23
В 2007 г. по найденным в Кении зубам и фрагментам челюстей был описан накалипитек (Nakalipithecus nakayamai), он и считается сейчас последним общим предком гоминид, шимпанзе и горилл. Возраст находки – 10 миллионов лет. – Прим. ред.
24
Фамилия внука и деда, разумеется, одна и та же – Huxley. Но работы Томаса начали переводиться на русский язык еще в XIX веке, и в русской литературе закрепилась старинная транслитерация его фамилии. – Прим. науч. ред.
25
Джулиан Хаксли опубликовал подборку как собственных рассуждений, так и рассуждений своего деда по этому вопросу под названием «Пробный камень для этики».
26
Статья «Прогресс: биологический и не только», открывающая его сборник «Заметки биолога», содержит пассажи, выглядящие почти что как призыв сражаться под знаменем эволюции: «…[Человеческий] взгляд обращен в том же направлении, в каком движется основной поток эволюционирующей жизни, и наше высшее призвание, истинная цель борьбы, издавна нами ощущаемая, – это расширять возможности процесса, которым природа уже была занята все эти миллионы лет: внедрять все более рациональные подходы, осознанно ускорять то, что в прошлом было делом слепых, бессознательных сил». Данный отрывок служит примером явления, которое далее на стр. 187 я пренебрежительно называю «поэтической наукой» – поэтической в плохом смысле слова, а не в том хорошем, что подразумевает заголовок «Наука души». Сборник очерков Хаксли сильно повлиял на меня, когда я читал его в студенческие годы. Сегодня он впечатляет меня куда меньше, и я скорее подпишусь под теми словами, что однажды неосмотрительно пробормотал Питер Медавар, забыв о риске быть услышанным: «Проблема с Джулианом в том, что он просто не понимает эволюцию!»
27
В своей книге «Полный дом» Стивен Джей Гулд подвергает справедливой критике понятие «прогресса», когда оно подразумевает стремление к великолепной вершине, именуемой человеком. Однако я в своей рецензии на книгу Гулда защищаю термин «прогресс»: он применим в тех случаях, когда речь идет о последовательной и однонаправленной эволюции, приводящей к возникновению сложных приспособлений и зачастую идущей под действием «эволюционной гонки вооружений».
28
Перефразированная цитата из поэмы А. Теннисона In Memoriam A. H. H. (песнь LVI): «…Кто верил в то, что Бог – любовь, / Хоть видел пред собой веками / Природу с красными клыками / И обагрявшую их кровь?» – Прим. перев.
29
Выше, в сноске на стр. 39, я сделал аналогичное замечание касательно Ричарда Левонтина, соавтора Роуза и тоже марксиста.
30
Близнецовый метод представляет собой эффективный и простой для понимания способ оценить вклад генов в изменчивость. Измерьте что-нибудь (все, что вам угодно) у нескольких пар однояйцевых (т. е., как хорошо известно, генетически идентичных) близнецов и сравните их сходство (внутри каждой пары) со сходством по тому же признаку (тоже внутри каждой пары) у разнояйцевых близнецов (у которых общих генов не больше, чем у обычных братьев или сестер). Если сходство – скажем, по умственным способностям – среди однояйцевых близнецов значимо превышает таковое у разнояйцевых, значит, за это ответственны гены. Близнецовый метод особенно нагляден в тех редких – и тщательно изученных – случаях, когда однояйцевые близнецы были разлучены при рождении и воспитывались порознь.
31
Любую евгеническую политику, навязываемую правительством ради положительного отбора по неким необходимым государству признакам вроде интеллекта или скорости бега, будет куда сложнее оправдать, нежели добровольную евгенику. При экстракорпоральном оплодотворении (ЭКО) на женщину воздействуют гормонами, чтобы вызвать суперовуляцию, получая таким образом около дюжины яйцеклеток. Из всех этих успешно оплодотворенных в чашке Петри яйцеклеток только две или самое большее три помещают обратно в женское тело – в надежде, что они «приживутся». Выбор обычно производится случайным образом. Однако у восьмиклеточного зародыша можно безо всякого вреда взять одну клетку для генетического анализа. Мало кто стал бы протестовать против того, чтобы применять этот метод ради выявления таких патологий, как гемофилия или болезнь Гентингтона, – т. е. в целях «отрицательной евгеники». Тем не менее многих ужаснула бы мысль об использовании той же самой технологии для евгеники «положительной»: проводить в чашке Петри отбор, скажем, по музыкальным способностям (если однажды такое будет возможным). А ведь те же самые люди ничего не имеют против того, чтобы честолюбивые родители навязывали своим детям уроки музыки и игры на фортепиано. Возможно, для таких двойных стандартов имеются веские причины, но их нужно обсуждать. Как минимум важно проводить различие между добровольной евгеникой, осуществляемой конкретными родителями, и государственной евгенической политикой вроде той, что так грубо проводили нацисты.

