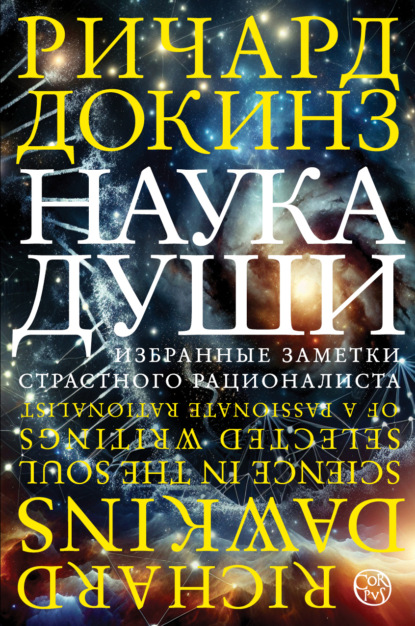
Полная версия:
Наука души. Избранные заметки страстного рационалиста

Ричард Докинз
Наука души. Избранные заметки страстного рационалиста
Science In The Soul. Selected Writings of a Passionate Rationalist
© Richard Dawkins, 2017
© Gillian Somerscales, introductory material, 2017
© А. Гопко, перевод на русский язык, 2025
© А. Бондаренко, художественное оформление, макет, 2025
© ООО «Издательство АСТ», 2025
Издательство CORPUS®
Памяти Кристофера Хитченса
Предисловие автора
Я пишу эти строки через два дня после ошеломительного путешествия к аризонскому Большому каньону (слово «ошеломительный» еще не девальвировалось так же сильно, как «потрясающий», хотя, боюсь, и его может ждать та же судьба). Великий каньон – священное место для многих коренных американских племен: здесь происходит действие многих мифов о возникновении мира, придуманных различными народностями, от хавасупаев до зуни, здесь находят последнее пристанище умершие индейцы хопи. Если бы меня принудили выбирать себе религию, я, пожалуй, согласился бы на что-нибудь подобное. Большой каньон сообщает религии размах, оставляющий далеко позади мелочную ограниченность авраамических религий – трех вечно грызущихся между собой культов, которые в силу исторической случайности все еще досаждают человечеству.
В ночной темноте я отправился на прогулку вдоль южной кромки каньона, прилег на невысокую скалу и стал смотреть вверх, на Млечный Путь. Я заглядывал в прошлое, наблюдая зрелище, происходившее сто тысяч лет назад, когда увиденный мною свет начинал свое долгое путешествие, конечной целью которого было пройти сквозь мои зрачки и вызвать электрические разряды в сетчатке. На рассвете я вернулся к тому же самому месту, испытал дрожь и головокружение, когда понял, где именно мне довелось прилечь во мраке, и посмотрел вниз, на дно каньона. И вновь я заглянул в прошлое – теперь уже на два миллиарда лет назад, в те времена, когда одни лишь микробы невидимо копошились под Млечным Путем. Если души индейцев хопи действительно спят посреди этого величественного покоя, то им должны составлять компанию замурованные в скалах духи трилобитов и морских лилий, плеченогих и белемнитов, аммонитов и даже динозавров.
Изучая эволюционное развитие по напластованиям каньона в милю высотой, можно ли указать точку, в которой вдруг, как неожиданно включенный свет, возникло то, что мы могли бы назвать «душой»? Или же «душа» проникала в мир украдкой: едва теплящаяся тысячная часть души у мерно колышущегося трубчатого червя, десятая доля души у латимерии, половинка души у долгопята, затем типичная человеческая душа и, наконец, душа масштаба Бетховена или Манделы? А может, говорить о душах вообще глупо?
Не глупо, если под этим понятием вы подразумеваете нечто вроде поразительного ощущения субъективной, персональной индивидуальности. Каждый знает, что такая душа у нас есть, даже если, по мнению многих современных мыслителей, она иллюзия, сформировавшаяся, как мог бы предположить дарвинист, потому что непротиворечивая, движимая единой целью субъектность способствует нашему выживанию.
Зрительные иллюзии – такие как куб Неккера, невозможный треугольник Пенроуза или фокус с оборотной стороной маски – доказывают, что видимая нами «реальность» образуется из несовершенных моделей, формирующихся в головном мозге. В случае с кубом Неккера двумерный рисунок из начерченных на бумаге линий совместим с двумя альтернативными конфигурациями трехмерного куба, и мозг поочередно выбирает то одну, то другую из них. Это чередование явственно ощутимо – можно даже измерить его частоту. А линии, образующие на бумаге треугольник Пенроуза, не совместимы ни с каким предметом реального мира. Подобные иллюзии дразнят программное обеспечение головного мозга, занимающееся построением моделей, и показывают тем самым, что оно существует.
Программное обеспечение мозга создает аналогичным образом и полезную иллюзию индивидуальности: некоего «я», находящегося, по ощущениям, непосредственно позади наших глаз; «субъекта», принимающего решения в соответствии со своей свободной волей; целостной личности, которая стремится к достижению целей и испытывает эмоции. Формирование личности происходит постепенно в раннем детстве – возможно, путем объединения изначально разрозненных фрагментов. Некоторые расстройства психики трактуются как «раздвоение личности», то есть как несоединимость частей. Небезосновательно будет предполагать, что постепенный рост самосознания у ребенка отражает сходные преобразования на более долговременной – эволюционной – шкале. Не обладает ли, скажем, рыба зачатками индивидуального самоощущения на уровне, в каком-то смысле эквивалентном уровню новорожденного младенца?
Мы вправе рассуждать об эволюции души – но только обозначая этим словом нечто вроде внутренней конструкции, модели «себя». Если же под «душой» подразумевать привидение, остающееся жить после смерти тела, то это совсем другой разговор. Персональная идентичность возникает в результате материальной деятельности головного мозга, и ей суждено претерпевать распад, возвращаясь к пренатальному небытию, по мере того как мозг приходит в упадок. Однако у «души» и тому подобных слов имеются и поэтические значения, которые я употребляю не краснея. В эссе из моего сборника «Капеллан дьявола» я прибегал к этим словам для восхваления великого педагога Ф. У. Сэндерсона, который еще до моего рождения возглавлял школу, где я учился. Рискуя быть понятым неверно, я писал о «духе» и о «призраке» покойного Сэндерсона:
Его дух продолжал жить в Аундле. Его непосредственный преемник Кеннет Фишер вел педагогический совет, когда в дверь робко постучали и вошел маленький мальчик: «Простите, сэр, там у реки черные крачки». «Это может подождать», – решительно сказал Фишер собравшимся. Он встал с председательского места, схватил свой висевший на двери бинокль и уехал на велосипеде в компании юного орнитолога. Невольно представляешь себе, как добродушный, краснощекий призрак Сэндерсона с улыбкой глядел им вслед.
Я продолжил вести речь о «тени» Сэндерсона, описывая и другую сцену, уже из собственного ученического опыта, когда преподаватель естественных наук Йоан Томас, умевший пробуждать интерес к предмету (он пришел в нашу школу, потому что восхищался Сэндерсоном, хотя и был слишком молод, чтобы знать его лично), эффектно продемонстрировал нам, как важно признавать свое неведение. Он задавал нам по очереди один и тот же вопрос, и мы высказывали свои предположения. В конце концов наше любопытство разожглось, и мы завопили («Сэр! Сэр!»), требуя правильного ответа. Мистер Томас многозначительно дождался наступления тишины, а затем четко и ясно проговорил, для пущего эффекта делая паузы между словами: «Я не знаю! Я… не… знаю!»
И вновь отеческая тень Сэндерсона довольно посмеивалась в углу, и никому из нас не забыть этого урока. Важны не сами знания, а как ты открываешь их для себя и как о них думаешь – вот образование в подлинном смысле слова, столь отличное от нынешней помешанной на оценках культуры.
Был ли риск, что читатели того моего эссе неправильно поймут меня и решат, будто «дух» Сэндерсона все еще жив, его добродушный, краснощекий «призрак» глядит с улыбкой, а его «тень» довольно посмеивается в углу? Не думаю, хотя бог его знает (ну вот, опять) – страстного рвения понимать неправильно в таких делах хватает с лихвой.
Должен признать, что подобная опасность, обусловленная все тем же рвением, подстерегает нас и с заглавием данной книги. «Наука души». Что это означает?
Прежде чем я отвечу, позвольте сделать отступление. Я полагаю, что Нобелевскую премию по литературе давно пора присудить ученому. Должен с огорчением сказать, что имевший место прецедент крайне неудачен: Анри Бергсон – скорее мистик, нежели подлинный человек науки, а предложенный им виталистический термин е́lan vital был едко высмеян Джулианом Хаксли в сатирическом образе поезда, передвигающегося по железной дороге при помощи е́lan locomotif. Но если серьезно, почему не дать литературную Нобелевку настоящему ученому? Хотя Карл Саган, увы, покинул этот мир и уже не может получить ее, кто станет спорить с тем, что литературным качеством своих работ он соответствует нобелевским стандартам, не уступая великим романистам, историкам и поэтам? А Лорен Айзли? Льюис Томас? Питер Медавар? Стивен Джей Гулд? Джейкоб Броновски? Дарси Томпсон?
Каковы бы ни были заслуги отдельных авторов, которых мы могли бы перечислить, разве сама по себе наука – не достойная тема для наилучших писателей, более чем способная вдохновлять великую литературу? И каковы бы ни были конкретные особенности науки, делающие ее таковой (это те же самые качества, что порождают великую поэзию и приводят к появлению романов, удостаиваемых Нобелевской премии), разве мы здесь не приближаемся к тому, чтобы постичь значение слова «душа»?
«Духовный» – вот еще одно слово, применимое к научной литературе уровня Сагана. Принято считать, что физики чаще биологов называют себя верующими. Тому имеются даже статистические подтверждения, справедливые для членов как Лондонского королевского общества, так и Национальной академии наук США. Но опыт показывает, что если копнуть глубже, то даже у тех 10 % из отборных ученых, что сознаются в некоторой религиозности, нет, как правило, веры ни в сверхъестественное, ни в Бога, ни в Творца, нет и стремления к загробной жизни. А есть у них – они и сами так вам скажут, если начать допытываться, – лишь некое «духовное» ощущение. Им может нравиться затасканное словосочетание «благоговейное изумление», и кто их в том упрекнет? Они, как и я на этих страницах, могут цитировать индийского астрофизика Субраманьяна Чандрасекара с его «трепетом перед прекрасным» или американского физика Джона Арчибальда Уилера:
За всем этим наверняка стоит идея столь простая и столь красивая, что, когда мы постигнем ее – через десять, сто, тысячу лет, – мы все скажем друг другу: «Как же могло быть иначе? Как мы могли быть так слепы?»
Сам Эйнштейн, не будучи чужд духовности, совершенно недвусмысленно говорил, что не верит ни в какое персонифицированное божество:
То, что вы читали о моих религиозных убеждениях, – разумеется, ложь, причем ложь систематически повторяемая. Я не верю в персонифицированного Бога, чего никогда и не отрицал, а, напротив, ясно высказывал. Если во мне и есть что-то, что можно назвать религиозностью, то это безмерное восхищение устройством мира, насколько наша наука позволяет его постичь.
И по другому случаю:
Я глубоко религиозный безбожник, что в некотором роде новая религия.
Хоть я и предпочел бы иную формулировку, я ощущаю себя «духовной» личностью именно в таком смысле «глубоко религиозного безбожника» – и именно в данном смысле безо всякого смущения использую слово «душа» в заглавии этой книги.
Наука восхитительна и необходима. Восхитительна она для души – например, при созерцании глубин пространства и времени на краю Большого каньона. Но она и необходима: для общества, для нашего благополучия, для нашего близкого и далекого будущего. Оба эти аспекта науки представлены в данной антологии.
Всю свою взрослую жизнь я отдавал силы научному просвещению, и большинство собранных здесь эссе возникло в те годы, когда я занимал должность профессора по осознанию обществом достижений науки, тогда только что учрежденную Чарльзом Симони. Популяризируя науку, я долгое время отстаивал направление, которое называл школой Карла Сагана, то есть провидческую, поэтическую, будоражащую воображение сторону науки, противопоставляя ее «школе сковородок с антипригарным покрытием». Под последней я имею в виду стремление оправдывать стоимость, скажем, космических исследований наличием у них побочных результатов вроде непригорающей сковородки: такое стремление можно сравнить с попыткой обосновать необходимость музыки тем, что она хорошее упражнение для правой руки скрипача. Это обесценивающе и унизительно. Полагаю, и мое сатирическое сравнение могут упрекнуть в чрезмерном обесценивании, но я все же продолжаю его использовать, тем самым отдавая предпочтение научной романтике. Чтобы обосновать важность исследований космоса, я скорее заговорю о том чувстве, которое превозносил Артур Кларк, а Джон Уиндем окрестил «зовом пространства», – о современной версии зова, что вел Магеллана, Колумба и Васко да Гаму на поиски неизведанного. Однако ярлык «школа сковородок с антипригарным покрытием» и вправду несправедливо принижает соответствующее направление мысли, так что сейчас я собираюсь обратиться к серьезному, практическому значению науки, ведь ему посвящены многие эссе данной книги. Наука действительно важна для жизни, и под наукой я подразумеваю не только научные факты, но и научное мышление.
Я пишу это в ноябре 2016-го: унылый месяц унылого года, когда выражение «варвары у ворот» тянет произносить безо всякой иронии. Впрочем, они не у ворот, а скорее внутри крепости, ведь несчастья, постигшие две самые населенные из англоязычных стран, вызваны внутренними причинами: эти раны нанесены не землетрясением и не военным переворотом, а демократическим процессом как таковым. Разум как никогда нуждается в том, чтобы на него обратили внимание.
Я вовсе не склонен недооценивать эмоции: я люблю музыку, литературу, поэзию, а также тепло человеческих привязанностей – как физическое, так и душевное, – но эмоции должны знать свое место. Принимаемые на государственном уровне политические решения, которые влияют на будущее, должны вытекать из хладнокровного, рационального рассмотрения всех возможностей, аргументов за и против, вероятных последствий. Интуиция, даже если она не берет свое начало в мутных и темных водах ксенофобии, мизогинии и прочих слепых предрассудков, должна держаться в стороне от кабины для голосования. Какое-то время эти неясные эмоции почти не поднимались на поверхность. Но в 2016 году политические кампании по обе стороны Атлантики вытащили их на всеобщее обозрение, сделав если не респектабельными, то по крайней мере выражаемыми открыто. Демагоги подали пример всем остальным и торжественно открыли сезон таких предубеждений, о которых в течение полувека считалось постыдным шептаться по углам.
Каковы бы ни были сокровенные чувства отдельно взятых ученых, сама наука зиждется на строгой приверженности к объективным показателям. Существует объективная истина, и наше дело – искать ее. Естественным наукам присущи тщательно соблюдаемые меры предосторожности, направленные против личной предубежденности, против невольного человеческого стремления подтверждать собственные взгляды, против предвзятых выводов, делаемых до ознакомления с фактами. Опыты проводятся неоднократно, двойные слепые исследования страхуют как от извинительного желания ученых доказать свою правоту, так и от более похвального чрезмерного старания максимизировать возможность ее опровержения. Эксперимент, поставленный в Нью-Йорке, может быть воспроизведен в Нью-Дели, и выводы из него будут ожидаться одни и те же, невзирая ни на географию, ни на культурно и исторически обусловленные личные пристрастия ученых. Вот бы и о других академических дисциплинах, таких как богословие, можно было сказать то же самое! Философы охотно рассуждают о «континентальной» философии, противопоставляя ее «аналитической». Кафедра философии американского или британского университета вполне может искать специалиста, чтобы «закрыть вакансию по континентальной традиции». В силах ли вы представить себе кафедру естественных наук, дающую объявление о свободной должности преподавателя «континентальной химии»? Или о «восточной традиции в биологии»? Сама идея кажется неудачной шуткой. Это кое-что да говорит о научных ценностях и выглядит не слишком лестно по отношению к ценностям философским.
Начав с научной романтики и «зова пространства», я перешел к научным ценностям и научному мышлению. Решение поставить практическую пользу науки в самый конец может кому-то показаться странным, но такая последовательность отражает мои личные приоритеты. Разумеется, медицинские блага вроде вакцин, антибиотиков и обезболивающих чрезвычайно важны и слишком хорошо известны, чтобы говорить тут о них в очередной раз. То же самое относится и к изменениям климата (зловещие и, пожалуй, уже запоздалые предостережения), и к дарвиновской эволюции устойчивости к антибиотикам. Здесь я собираюсь рассмотреть другое предостережение, менее срочное и менее известное. В нем удачно переплетаются все три заявленные темы: зов пространства, практическая польза науки и научное мышление. Речь идет о неизбежной, хотя и не обязательно неотвратимой, опасности катастрофического столкновения с крупным объектом внеземного происхождения – вероятнее всего, вышедшим из астероидного пояса под воздействием гравитации Юпитера.
Динозавры, за важным исключением птиц, были сметены с лица земли грандиозным космическим катаклизмом, который рано или поздно грянет снова. На сегодняшний день имеется немало убедительных косвенных свидетельств в пользу того, что около шестидесяти шести миллионов лет назад в полуостров Юкатан ударил гигантский метеорит или комета. Согласно правдоподобным оценкам, масса этого объекта (размером с приличную гору) и его скорость (по-видимому, 40 000 миль в час) должны были высвободить при ударе энергию, эквивалентную одновременному взрыву нескольких миллиардов бомб, сброшенных на Хиросиму. Вызванные непосредственным столкновением палящая температура и ударная волна могли послужить причиной долгой ядерной зимы, длившейся, вероятно, лет десять. Совокупность этих событий уничтожила всех нептичьих динозавров, а также птерозавров, ихтиозавров, плезиозавров, аммонитов, большинство видов рыб и множество других существ. К счастью для нас, кое-какие млекопитающие сумели выжить – возможно, благодаря тому, что находились в спячке в своих подземных «бункерах».
Катастрофы подобного масштаба будут грозить нам снова. Когда именно – никто не знает, ведь эти столкновения случайны. Никоим образом нельзя сказать, что их вероятность возрастает по мере того, как промежуток между ними увеличивается. Такое может произойти и при нашей жизни, но вряд ли, поскольку столь громадные метеориты падают в среднем раз в сотни миллионов лет. Более мелкие, но все же опасные астероиды, достаточно крупные, чтобы разрушить город величиной с Хиросиму, врезаются в Землю каждый век или два. А не беспокоит это нас потому, что бо́льшая часть поверхности нашей планеты необитаема. Да и они, разумеется, не падают регулярно. Нельзя посмотреть на календарь и сказать: «Скоро следующий».
За советы и информацию по этой теме я благодарю знаменитого астронавта Расти Швайкарта, ставшего самым известным борцом за то, чтобы принимать данный риск всерьез и пытаться как-то его предотвратить. Но что мы можем сделать? Что могли бы сделать динозавры, будь у них телескопы, инженеры и математики?
Первым делом необходимо обнаружить приближающийся объект. Слово «приближающийся» может создать неверное впечатление о природе проблемы. Это не несущиеся прямо на нас пули, видимые все четче и четче по мере своего приближения. И Земля, и угрожающий ей объект движутся по эллиптическим орбитам вокруг Солнца. При обнаружении астероида нам следует вычислить его орбиту – а это можно сделать тем точнее, чем больше мы проведем наблюдений, – и рассчитать, не пересечется ли она когда-нибудь в будущем (быть может, через много десятилетий) с орбитой нашей планеты. Когда астероид обнаружен и его орбита точно определена, все остальное – просто математика.
Рябой лик Луны – тревожная иллюстрация тех бедствий, которых мы избегаем благодаря защите земной атмосферы. Статистическое распределение лунных кратеров различного диаметра позволяет нам понять истинное положение вещей, задает некий базовый уровень для оценки наших скромных успехов в заблаговременном обнаружении опасных космических объектов.
Чем крупнее астероид, тем проще его выявить. Мелкие – в том числе и такие «мелкие», что способны разрушить целый город, – вообще трудно детектируемы и потому запросто могут явиться почти, или даже совсем, без предупреждения. Нам необходимо совершенствовать свое умение обнаруживать астероиды. А это значит наращивать количество широкоугольных телескопов для мониторинга, в том числе инфракрасных на орбите, расположенных вне искажающего влияния атмосферы Земли.
Вот мы распознали опасный астероид, чей путь грозит однажды пересечься с нашим, но что делать дальше? Теперь нам нужно изменить траекторию объекта – либо ускорив его и выведя на более широкую орбиту, чтобы он подошел к месту встречи слишком поздно для столкновения, либо же, наоборот, замедлив, чтобы его орбита сократилась и он явился слишком рано. Как ни удивительно, хватит очень малого изменения скорости в любом направлении – всего 0,025 мили в час. Это осуществимо даже без использования взрывчатки – при помощи уже наличествующих, хотя и затратных, технологий, имеющих отношение к грандиозному успеху миссии «Розетта», которая была организована Европейским космическим агентством с целью посадить космический аппарат на комету, что и произошло через двенадцать лет после запуска, состоявшегося в 2004 году. Теперь вы понимаете, что я имел в виду, говоря о соединении фантазерского «зова пространства» с трезвой практичностью прикладных исследований и строгостью научного мышления? Данный подробный пример иллюстрирует еще одно свойство научного подхода, еще одно преимущество того, что можно было бы назвать душой науки. Кто, кроме ученого, сумеет предсказать точный момент мировой катастрофы за сотню тысяч лет и разработать скрупулезный план по ее предотвращению?
Несмотря на то, что эти эссе писались на протяжении значительного срока, сегодня я в них мало что изменил бы. Можно было бы удалить из них все отсылки ко времени их написания, но я не стал. Кое-какие из представленных здесь текстов – это речи, подготовленные для конкретных случаев вроде открытия выставки или почтения памяти усопшего. Я оставил их в неприкосновенности – такими, какими некогда произнес. Они сохраняют присущую им непосредственность, которая исчезла бы, задумай я вычистить из них все упоминания, касавшиеся текущего момента. Я ограничился сносками и послесловиями: добавил краткие дополнения и размышления, пригодные, пожалуй, для того, чтобы читать их параллельно с основными текстами – как своеобразный диалог между мной сегодняшним и автором исходной статьи.
Вместе с Джиллиан Сомерскейлс мы отобрали из моих эссе, речей и журналистских статей сорок один текст и распределили между восемью разделами. Помимо науки как таковой, я размышляю там о научных ценностях, об истории науки и о роли науки в обществе: немного полемики, сатиры и юмора, аккуратное заглядывание в будущее, а также щепотка личных сожалений (надеюсь, не переходящих в брюзжание). Каждый раздел начинается со вдумчивого вступительного слова самой Джиллиан. Добавлять что-либо к сказанному ею было излишне, но, как вы уже знаете, я все-таки не удержался и от собственных сносок и послесловий.
Когда мы обсуждали различные варианты заглавия книги, «Наука души» (или «для души») лидировала в гонке: и Джиллиан, и я отдавали этому названию легкое предпочтение перед многочисленными конкурентами. И хотя за мной прежде не замечалось веры в приметы, должен сознаться, что окончательное решение я принял, когда, составляя в августе 2016 года каталог своей библиотеки, наткнулся на восхитительную брошюру Майкла Шермера. Она была посвящена «Ричарду Докинзу, отдавшему науке свою душу» и называлась «Душа для науки». Это было почти столь же неожиданно, сколь и приятно, так что ни Джиллиан, ни я более не сомневались в том, как назвать книгу.
Я безгранично благодарен Джиллиан. Кроме того, мне бы хотелось выразить свою признательность Сюзанне Уэйдсон из издательства Transworld и Хилари Редмон из Penguin Random House USA за их горячую веру в наш проект и за ценные советы. Миранда Хэйл, будучи искусным пользователем интернета, помогла Джиллиан разыскать утерянные статьи. Сам жанр антологии, включающей в себя тексты, которые писались на протяжении многих лет, подразумевает и благодарности за тот же период. Они приведены в оригинальных публикациях. Я не могу воспроизвести их все здесь и надеюсь на понимание. То же касается и библиографических ссылок. Интересующийся ими читатель найдет их в оригинальных публикациях, полные выходные данные которых приведены в конце книги.
Предисловие редактора
Ричард Докинз никогда не поддавался классификации. Один выдающийся биолог с математическим складом ума, рецензируя «Эгоистичный ген» и «Расширенный фенотип», был поражен, обнаружив научный труд, явно лишенный логических ошибок и однако же не содержавший ни единой строчки математических выкладок. Ему ничего не оставалось, кроме как прийти к непостижимому, с его точки зрения, выводу: «По-видимому, Докинз… думает прозой».

