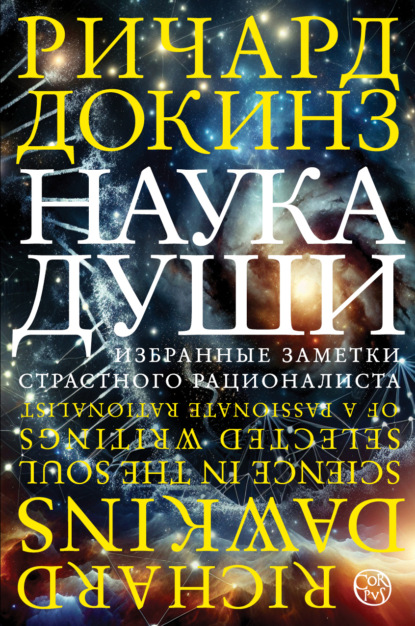
Полная версия:
Наука души. Избранные заметки страстного рационалиста
К счастью, так оно и есть. Ведь если бы Докинз не думал прозой – не учил прозой, не рассуждал прозой, не изумлялся прозой, не спорил прозой, – у нас не было бы головокружительной вереницы работ, созданных самым разносторонним из просветителей. Не только тринадцать его книг, о достоинствах которых мне нет нужды распространяться, но и громадный – глаза разбегаются! – выбор более коротких текстов: статьи для ежедневных газет и научных журналов, лекционных аудиторий и онлайн-форумов, колонки, полемические статьи, рецензии, обзоры. Из этого изобилия, разрабатывая богатые месторождения, сформировавшиеся как до, так и после публикации первой антологии Докинза «Капеллан дьявола», мы и составили вместе с ним данный сборник, включающий в себя наравне со многими недавними и несколько более ранних, проверенных временем сочинений.
Учитывая его репутацию спорщика, мне казалось особенно важным уделить должное внимание той работе по объединению людей, которую совершает Ричард Докинз, неустанно протягивая мостики через пропасть между научными рассуждениями и широчайшим спектром общественных дискуссий. Мне он видится этаким эгалитаристским элитистом, посвятившим себя тому, чтобы делать сложную науку не просто доступной, но постижимой (причем без какой-либо профанации «для чайников»), постоянно добивающимся ясности и четкости мысли, использующим слово как точный прибор, как хирургический инструмент.
Если он также пользуется словом как рапирой, а иногда и как дубинкой, то только чтобы пробить брешь в обскурантизме и претенциозности, убрать с дороги отвлечение внимания и путаницу в головах. Он не выносит фальши ни в чем, будь то убеждения, наука, политика или чувства. Читая и перечитывая его статьи при отборе их для этой книги, я мысленно выделила группу работ, которые назвала «дротиками»: краткие колкие заметки, порой забавные, порой пышущие гневом, порой душераздирающе трогательные или ошеломляюще невежливые. У меня было искушение сгруппировать часть из них в особый раздел, но, поразмыслив, я предпочла расположить несколько таких «дротиков» вперемежку с более вдумчивыми и развернутыми эссе, что и яснее показывает диапазон творчества автора в целом, и позволяет читателю лучше прочувствовать смены ритма и тональности, доставляющие такое наслаждение при чтении Докинза.
Здесь вам встретятся восторг и насмешка, доведенные до предела. Попадется и ярость, но никогда она не будет направлена на сведение личных счетов – только на вред, причиняемый другим, в особенности детям, животным и тем людям, что подвергаются гонениям за противостояние диктату властей. Эта ярость и сопутствующая ей грусть по всему, что испорчено или утрачено, напоминают мне – и я подчеркиваю, что говорю только за себя, а не за Ричарда, – о трагическом аспекте его писательской и ораторской деятельности после «Эгоистичного гена». Если слово «трагический» кажется вам чересчур сильным, подумайте вот о чем. В той книге, что произвела эффект разорвавшейся бомбы, он объяснил механизм действия эволюции путем естественного отбора, используя логику, основывающуюся на неумолимо своекорыстном поведении крошечных репликаторов, создающих живые организмы. Затем он подчеркнул, что люди – единственные, кому под силу сбросить тиранию эгоистичных реплицирующихся молекул, взять себя и весь мир в собственные руки, планировать будущее и, следовательно, влиять на него. Мы первый вид существ, способных быть неэгоистичными. Это был своего рода боевой клич. А трагизм вот в чем: вместо того чтобы затем посвятить свои разнообразные таланты убеждению человечества в необходимости использовать такое ценное свойство, как сознание (а также непрестанно множащиеся достижения науки и разума), дабы подняться над эгоистичными импульсами, запрограммированными в нас эволюцией, он был вынужден растрачивать свою энергию и способности на то, чтобы убеждать людей в существовании эволюции как таковой. Работенка, возможно, неприятная, но кто-то должен ее делать, ведь, по его собственным словам, природа не может сама подать иск за клевету. И как замечает он в одной из приведенных здесь работ: «…Я уяснил, что строгое следование здравому смыслу никоим образом не является очевидным для большинства людей. Здравый смысл и впрямь нуждается в непрестанной бдительности для своей защиты». Ричард Докинз – не только пророк разума, но и наш неусыпный часовой.
Досадно, что с понятиями точности и ясности ассоциируется так много суровых эпитетов: «безжалостная», «беспощадная», «убийственная», – ведь убеждения Ричарда так и лучатся состраданием, великодушием, добротой. Даже его критика, вооруженная строгостью, обезоруживающе остроумна, как, например, в его обращении к премьер-министру, где говорится о «баронессе Варси, вашем министре без портфеля (и без избрания)», или когда он пародирует одного из приспешников Блэра, поддерживавшего своего начальника в поощрении религиозного многообразия: «Мы поспособствуем открытию шариатских судов, но на строго добровольной основе – только для тех, чьи мужья и отцы сами этого захотят».
Говоря о ясности изложения, я выберу другие образы: проницательность, следовательское внимание к логике и деталям, ослепительное озарение. А манеру, в какой пишет Докинз, я бы предпочла называть не грубой, а атлетической: она воздействует не только силой, но и гибкостью, легко приноравливаясь практически к любым слушателям, читателям и темам. Весьма немногие авторы способны сочетать выразительность и утонченность, эмоциональное воздействие и точность вместе с таким изяществом и юмором.
Я работаю с Ричардом Докинзом около десяти лет, начиная с его книги «Бог как иллюзия». И если, читая следующие страницы, вы сможете хотя бы отчасти оценить не только точность мыслей автора и легкость их изложения, не только бесстрашие, с каким он пускается лавировать по самым скользким темам, не только энергию, с какой он отдает себя разъяснению сложности и красоты науки, но также благородство, доброжелательность и любезность, какими были пронизаны все наши с Ричардом взаимоотношения за годы, прошедшие с того первого сотрудничества, – значит, одна из целей настоящего издания будет достигнута.
Еще одна цель окажется достигнутой, если книга будет соответствовать удачному описанию, приведенному в одном из вошедших в нее эссе: «…Взаимно соответствующие части процветают в присутствии друг друга – и таким образом проступает иллюзия всеобщей гармонии». На самом же деле я уверена, что гармония, которой дышит этот сборник, – вовсе не иллюзия, а эхо одного из самых звонких и полнозвучных голосов нашего времени.
Дж. С.Часть I. Ценность (и ценности) науки
Мы начинаем с самого основного, с науки: что она из себя представляет, чем занимается, как (в идеале) делается. Лекция Ричарда «Научные ценности и наука о ценностях», прочитанная в 1997 году в пользу Amnesty International, – это чудесное многогранное произведение, которое охватывает широчайший круг вопросов и прокладывает путь для некоторых тем, рассматриваемых более подробно далее в настоящем сборнике. К числу таких тем относятся: непререкаемый авторитет объективной истины для науки; необходимость учитывать при этических рассуждениях такой фактор, как способность испытывать страдания; опасности «видизма»; выразительное подчеркивание ключевых различий – например, между «использованием риторики с целью продемонстрировать то, что считаешь правдой, и использованием риторики с целью намеренно правду сокрыть». Здесь мы слышим голос ученого-просветителя, убежденного, что слова следует выстраивать так, чтобы доносить истину, а не создавать «истины» искусственно. В первом же абзаце проводится важное разграничение: ценности, на которых базируется наука, – набор благородных и важных принципов, нуждающихся в защите, поскольку от них зависит сохранение нашей цивилизации, – это одно, а попытка сформулировать ценности на основе научного знания – дело совершенно другое и куда более сомнительное. Мы должны иметь храбрость признать, что начинать нам приходится в этическом вакууме, что свои ценности мы придумываем сами.
Автор лекции – отнюдь не одержимый голыми фактами мистер Грэдграйнд, не ученый сухарь, не книжный (и не могильный) червь. Фрагменты, где говорится об эстетической ценности науки, о поэтических видениях Карла Сагана, о «трепете перед прекрасным» Субраманьяна Чандрасекара, служат страстному прославлению триумфов и красот науки – ее способности приносить радость в нашу жизнь и давать надежду на будущее.
Затем происходит смена ритма и трибуны, а стиль из пространного и вдумчивого становится резким и язвительным – перед нами один из докинзовских «дротиков», как я их называю. Ричард с ледяной вежливостью продолжает некоторые рассуждения, начатые в лекции для Amnesty International, и предостерегает будущего британского монарха о том, как опасно руководствоваться «внутренним голосом», а не наукой, основанной на доказательствах. И хотя в принципе Докинз не отказывает людям в праве выносить собственные суждения о тех возможностях, что предоставляют наука и технологии, «один из тревожных аспектов истеричного противодействия возможным рискам, связанным с генно-модифицированными культурами, состоит в том, что оно отвлекает внимание от реальных опасностей, уже хорошо понятных, но во многом игнорируемых».
Следующее сочинение, вошедшее в данный раздел, – «Наука и страсти нежные», еще одна объемная лекция, прочитанная с типичной для Докинза смесью серьезности и остроумия. И здесь мы тоже встретим его мессианский восторг перед наукой, смягченный трезвым осознанием того, как далеко мы могли бы продвинуться к началу нового тысячелетия и какие дороги остались не пройдены. Что характерно, это воспринимается как призыв удвоить усилия, а вовсе не опускать руки.
Откуда же взялись это неиссякаемое любопытство, эта жажда знаний, это предупредительное сопереживание? Раздел завершают «Дулиттл и Дарвин» – одновременно и исполненный нежности взгляд в прошлое, на детские впечатления, внесшие свой вклад в прививание ребенку научных ценностей, и вместе с тем урок, объясняющий, как отделить собственно ценности от их преходящей исторической и культурной оболочки.
Сквозь все эти несхожие тексты ясно просвечивают следующие ключевые идеи. Не стоит убивать гонца за дурные вести, не стоит обращаться к иллюзорным утешениям, не стоит путать «так есть» с «так должно быть» и с «хотелось бы, чтобы так было». Вывод отсюда следует в конечном счете оптимистичный: осознанная, непрестанная сосредоточенность на том, как устроен мир, помноженная на живое воображение неисправимо любознательного человека, приводит к озарениям, способным просвещать, бросать вызов и вдохновлять. Таким образом, наука продолжает свое развитие, понимание совершенствуется, знания множатся. Будучи собраны вместе, эти тексты слагают манифест, прославляющий науку и призывающий сражаться за ее дело.
Дж. С.Научные ценности и наука о ценностях[1]
Научные ценности – что это означает? В поверхностном и широком смысле я собираюсь так называть (и описывать с симпатией) те ценности, которых должен придерживаться ученый – в той мере, в какой ему внушает их его профессия. В более же узком и строгом смысле речь идет о том, чтобы черпать ценности непосредственно из научного знания, как из некой священной книги. Ценности такого рода я буду решительно[2] отвергать. В качестве источника жизненных ценностей книга природы, быть может, и не хуже обычных священных книг, но это еще мало что дает.
Словосочетание «наука о ценностях» – вторая часть заголовка – обозначает научное исследование того, откуда берутся наши ценности. Сам по себе этот вопрос должен быть чисто академическим, лишенным оценочных суждений – с виду он не острее вопроса о том, откуда появился наш скелет. Вполне могло бы выясниться, что своими ценностями мы ничуть не обязаны нашей эволюционной истории, но это не тот вывод, к которому я приду.
Научные ценности в широком смысле
Не думаю, что в повседневной жизни ученые обманывают супруг, супругов и налоговых инспекторов реже (или чаще), чем кто угодно еще. Однако в профессиональной жизни у ученых есть особые причины ценить неприкрытую правду. Их деятельность основывается на убеждении, что существует такая штука, как объективная истина, что она не скована рамками культурных различий и что, если двое ученых зададутся одним и тем же вопросом, они непременно придут к одному и тому же верному ответу, каковы бы ни были их изначальные взгляды, культурная принадлежность и даже (в определенных пределах) личные способности. Это не противоречит часто повторяемому философскому утверждению, что, дескать, ученые не доказывают истин, а лишь поддерживают те гипотезы, которые не могут опровергнуть. Такой философ волен убеждать нас, что все известные нам факты – не более чем неопровергнутые теории, но существуют теории, на чью неопровержимость мы поставим все, что имеем. Они-то в просторечии и называются правдой[3]. Разные ученые, какие бы географические расстояния и культурные пропасти их ни разделяли, имеют обыкновение приходить к одним и тем же неопровергнутым теориям.
Такое мировоззрение полярно модному пустословию вроде следующего:
Объективной истины не существует. Мы сами создаем свою истину. Объективной реальности не существует. Мы сами создаем свою реальность. Духовные, мистические, внутренние способы познания превосходят наши обычные способы[4]. Если переживание кажется реальным, значит, оно реально. Если вы чувствуете, что идея правильна для вас, она правильна. Мы не можем приобрести знание об истинной природе реальности. Наука тоже иррациональна и мистична. Это еще одна вера, система воззрений, миф, имеющий не больше прав на существование, чем любой другой. Истинны убеждения или нет, не имеет значения – лишь бы они были вам дороги[5].
От этого легко сойти с ума![6] Чтобы наилучшим образом проиллюстрировать ценности одного из ученых, скажу, что, если наступит время, когда все будут так думать, я предпочту уйти из жизни. Ведь тогда мы снова погрузимся в Темные века, пусть даже они и не станут «более мрачными и более продолжительными под влиянием извращенной науки»[7], поскольку не будет никакой науки, чтобы ее извращать.
Да, действительно, ньютоновский закон всемирного тяготения лишь приблизителен. В свое время, возможно, и на смену эйнштейновской общей теории относительности придет что-нибудь другое. Но это не принижает их до уровня средневекового колдовства или предрассудков первобытных племен. На приблизительные законы Ньютона можно поставить свою жизнь, что мы регулярно и делаем. Когда придется лететь, чему наш культурный релятивист доверит себя: левитации или физике, ковру-самолету или авиастроительной компании «Макдоннелл-Дуглас»? В какой бы культурной среде вы ни были воспитаны, закон Бернулли не перестает действовать, как только вы покидаете пределы «западного» воздушного пространства. А на что вы поставите свои деньги, когда речь зайдет о прогнозах? Как заметил Карл Саган, сегодня вы можете, подобно герою Райдера Хаггарда, ошеломить дикарей релятивизма и нью-эйджа, с точностью до секунды предсказав полное солнечное затмение, которое будет через тысячу лет.
Саган умер месяц назад. Мы виделись с ним всего однажды, но я обожаю его книги и мне будет не хватать его как «свечи во тьме»[8]. Я посвящаю эту лекцию его памяти и буду использовать в ней выдержки из его сочинений. Замечание о предсказании затмений взято из последней прижизненно опубликованной книги Карла «Мир, полный демонов», где далее он пишет:
Если вы страдаете от анемии, можете сбегать к знахарю, но стоило бы попринимать витамин В12. И вашего ребенка от полиомиелита убережет не молитва, а прививка. Интересует пол еще не рожденного младенца? Качайте свинцовый грузик на веревочке (…с вероятностью 50 % угадаете). По-настоящему точно… пол ребенка предскажет ультразвук. Так воспользуйтесь же научным методом![9]
Конечно, ученые зачастую бывают не согласны друг с другом. Но, к их чести, они сходятся в том, какие новые доказательства смогли бы изменить их точку зрения. Путь, ведущий к любому открытию, будет опубликован, и каждый, кто его проделает, должен будет прийти к тем же выводам. Если вы лжете – подделываете картинки, публикуете только ту часть результатов, которая подтверждает нужные вам выводы, – вас, вероятно, разоблачат. В любом случае от занятий наукой не разбогатеешь, так стоит ли вообще ею заниматься, если своей ложью ты компрометируешь единственный смысл этой деятельности? Ученый скорее соврет жене или налоговому инспектору, но не научному журналу.
Само собой, в науке бывают случаи мошенничества и, вероятно, не все они раскрываются. Я лишь утверждаю, что в научном сообществе подделывание данных – смертный грех, непростительность которого немыслима по меркам любой другой профессии. Прискорбное следствие подобного отношения заключается в том, что ученые крайне неохотно доносят на своих коллег, даже если имеют причины подозревать тех в подтасовке результатов. Это примерно как обвинить кого-нибудь в каннибализме или педофилии. Столь тяжкие подозрения будут подавляться до тех пор, пока доказательства не станут совсем уж вопиющими, а вред к тому времени может быть причинен немалый. Если вы подделаете финансовый отчет, то не исключено, что коллеги отнесутся к вам со снисхождением. Если вы платите своему садовнику наличными, поддерживая таким образом уход от налогов и черный рынок, вы не становитесь изгоем. А ученый, пойманный за фальсификацией результатов исследований, – становится. Коллеги будут его чураться, и он безжалостно и навсегда окажется выдворен из профессии.
Адвокат, использующий красноречие, чтобы наилучшим образом защитить свое дело в суде, – даже если сам не верит тому, что говорит, даже если отбирает подходящие факты и искажает доказательства, – будет почитаем и вознагражден за свой успех[10]. К ученому, ведущему себя подобным образом – разливающемуся соловьем и всячески изворачивающемуся, лишь бы добыть подтверждение своей излюбленной теории, – отнесутся по меньшей мере с легким подозрением.
Ценности ученых обычно таковы, что обвинения в пропаганде – особенно если она искусная – это такие обвинения, которые нельзя оставить без ответа[11]. Однако существует большая разница между использованием риторики с целью продемонстрировать то, что считаешь правдой, и использованием риторики с целью намеренно правду сокрыть. Однажды я участвовал в университетских дебатах об эволюции. Наиболее убедительная речь в защиту креационизма была произнесена молодой дамой, рядом с которой мне довелось сидеть во время заключительного ужина. Когда я похвалил ее выступление, она сразу же сообщила, что не верит ни единому слову из него. Страстно отстаивая убеждения, диаметрально противоположные ее собственным, она просто тренировала свое умение дискутировать. Несомненно, из нее выйдет хороший адвокат. Но тот факт, что после этого я с трудом оставался вежливым в разговоре со своей сотрапезницей, кое-что да говорит о тех ценностях, которые я приобрел как ученый.
Полагаю, из сказанного мною следует, что на ценностной шкале ученых истине о природе отводится почти что священный статус. Быть может, именно поэтому некоторых из нас так выводит из себя деятельность астрологов, сгибателей ложек и прочих шарлатанов, воспринимаемая остальными людьми снисходительно, как безобидное развлечение. Закон о клевете наказывает тех, кто умышленно распространяет ложь о другом человеке. Но если вы зарабатываете деньги на ложной информации о природе, вам это сойдет с рук – никто ведь не подаст иска за клевету. Считайте мои ценности извращенными, если угодно, но мне бы хотелось, чтобы природу можно было представлять в суде, как представляют там интересы детей, терпящих жестокое обращение[12].
У любви к истине есть и оборотная сторона: порой ученые стремятся к правде, не думая о нежелательных последствиях[13]. Предупреждать общество о таких последствиях – громадная ответственность, возложенная на ученых. Эйнштейн осознавал эту опасность, когда говорил: «Если бы я только знал, стал бы слесарем». Но на самом деле он бы слесарем, конечно же, не стал. И когда пришло время, он подписал знаменитое письмо, предостерегавшее Рузвельта о том, на что способна и чем грозит атомная бомба. Иногда недоброжелательность, которой вознаграждают ученых, равносильна убийству гонца, принесшего плохую весть. Если астрономы укажут нам на приближающийся к Земле крупный астероид, последней мыслью многих людей перед столкновением будет хула «этих ученых». В нашей реакции на ГЭКРС[14] тоже есть что-то от убийства гонца. Только в отличие от примера с астероидом здесь действительно часть вины лежит на человечестве – в том числе и на ученых, а также на сельском хозяйстве и пищевой промышленности с их алчной погоней за прибылью.
Как пишет Карл Саган, его часто спрашивали, существует ли, по его мнению, внеземная разумная жизнь. Он осторожно склонялся в сторону утвердительного ответа, но говорил об этом сдержанно и неуверенно.
И тогда меня переспрашивают:
– Но что же вы думаете на самом деле?
– Я только что вам ответил, – повторяю я.
– Да, но в глубине души?
Душу я стараюсь не подключать к процессу. Если уж взялся постигать мир, то думать надо исключительно мозгом. Все остальные способы, как бы ни были соблазнительны, доведут до беды. И пока нет данных, воздержимся-ка мы лучше от окончательного суждения[15].
Недоверие к внутренним, личным прозрениям – это, как мне кажется, еще одна ценность, приобретаемая через занятия наукой. Персональные ощущения плохо сочетаются с классическими стандартами научного метода: проверяемостью, доказательностью, измеримостью, точностью, непротиворечивостью, беспристрастностью, воспроизводимостью, универсальностью и независимостью от культурной среды.
Есть у науки и такие ценности, которые, пожалуй, уместнее всего рассматривать как сходные с эстетическими. Высказывания Эйнштейна на эту тему приводятся достаточно часто, поэтому лучше я процитирую великого индийского астрофизика Субраманьяна Чандрасекара – лекцию, прочитанную им в 1975 году, когда ему было шестьдесят пять:
За всю свою научную жизнь… наибольшее потрясение я испытал, осознав, что точное решение эйнштейновских уравнений общей теории относительности, найденное новозеландским математиком Роем Керром, дает нам четкое представление о невообразимом множестве массивных черных дыр, рассыпанных по Вселенной. Этот «трепет перед прекрасным», этот невероятный факт, что открытие, к которому нас побуждает поиск красоты в математике, непременно находит свое точное отражение в Природе, вынуждает меня заявить, что красота – вот то, на что человеческий разум откликается с наибольшей глубиной и силой.
Его слова я нахожу в некотором отношении более волнующими по сравнению с легкомысленным дилетантизмом знаменитых строк Китса:
«Краса есть правда, правда – красота»,Земным одно лишь это надо знать[16].Если же отойти чуть в сторону от эстетики, то ученые склонны ставить на своей шкале ценностей долгосрочное выше краткосрочного. Вдохновение они черпают из широких космических пространств и тягучей медлительности геологического времени, а не из местечковых человеческих забот. Им более чем кому-либо свойственно видеть предметы sub specie aeternitatis[17] – пусть даже рискуя навлечь на себя обвинения в суровом, холодном, черством отношении к роду людскому.
В предпоследней книге Карла Сагана «Голубая точка» повествование строится вокруг поэтического описания того, как выглядит наша планета из далекого космоса:
Посмотрите на это пятнышко. Вот здесь. Это наш дом. <…>
Земля – очень маленькая площадка на бескрайней космической арене. Вдумайтесь, какие реки крови пролили все эти генералы и императоры, чтобы (в триумфе и славе) на миг стать властелинами какой-то доли этого пятнышка. Подумайте о бесконечной жестокости, с которой обитатели одного уголка этой точки обрушивались на едва отличимых от них жителей другого уголка, как часто между ними возникало непонимание, с каким упоением они убивали друг друга, какой неистовой была их ненависть.
Эта голубая точка – вызов нашему позерству, нашей мнимой собственной важности, иллюзии, что мы занимаем некое привилегированное положение во Вселенной. Наша планета – одинокое пятнышко в великой всеобъемлющей космической тьме. Мы затеряны в этой огромной пустоте, и нет даже намека на то, что откуда-нибудь придет помощь и кто-то спасет нас от нас самих[18].
Для меня единственный жестокий аспект только что процитированных строк состоит в том, что их автор умолк навеки. Считать ли жестоким то, как наука ставит человечество на место, – вопрос отношения. Возможно, это связано с научными ценностями, но многим из нас такие масштабные картины кажутся не холодными и пустынными, а жизнерадостными и бодрящими. И природу мы любим за то, что ею управляют законы, а не прихоть. В ней есть тайна, но нет волшебства. А тайны, когда они в конце концов разгаданы, становятся только прекраснее. Явления природы объяснимы, и нам с вами выпала честь объяснять их. Принципы, господствующие здесь, действительны и в других местах – вплоть до самых отдаленных галактик. Чарльз Дарвин, завершая свой труд «О происхождении видов» знаменитым пассажем про «густо заросший клочок земли»[19], отмечает, что все сложно организованные формы жизни «возникли по законам, действующим вокруг нас»[20], после чего продолжает:

