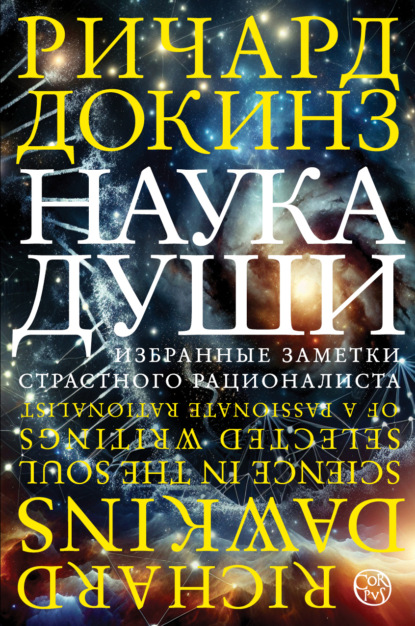
Полная версия:
Наука души. Избранные заметки страстного рационалиста
Так из вечной борьбы, из голода и смерти прямо следует самое высокое явление, которое мы можем себе представить, а именно – возникновение высших форм жизни. Есть величие в этом воззрении, по которому жизнь с ее разнородными силами была вдохнута первоначально в немногие формы или лишь в одну; по которому, меж тем как Земля продолжает кружиться по вечному закону тяготения, из столь простого начала развились и до сих пор развиваются бесчисленные формы дивной красоты[21].
Одно лишь только время, ушедшее на эволюцию видов, – уже благодатный аргумент за их сохранение. Здесь тоже кроется некое ценностное суждение – из тех, что уходят в глубь геологических эпох. Некогда я уже цитировал душераздирающий рассказ Ории Дуглас-Гамильтон об отстреле слонов в Зимбабве:
Я смотрела на один из выброшенных хоботов и задавалась вопросом, сколько миллионов лет понадобилось на то, чтобы создать это чудо эволюции. Оснащенный пятьюдесятью тысячами мускулов и управляемый мозгом соответствующей сложности, он может тянуть и толкать, двигая тонны груза… В то же время им можно выполнять самые тонкие операции. <…> И вот он лежит, отрезанный, как тысячи других слоновьих хоботов, что мне довелось видеть по всей Африке.
Этот отрывок, сколь бы трогательным он ни был, я привел, чтобы проиллюстрировать научные ценности, под влиянием которых миссис Дуглас-Гамильтон сделала акцент именно на миллионах лет, понадобившихся для эволюции всей сложности слоновьего хобота, а не, скажем, на правах слонов, на их способности испытывать страдания или на пользе дикой природы для обогащения как нашего человеческого опыта, так и экономики государств, зарабатывающих на туризме.
Не то чтобы понимание эволюции не имело никакого отношения к вопросам прав и страданий. Вскоре я собираюсь перейти к защите той точки зрения, что базовые моральные ценности нельзя вывести из научного знания. Однако философы-утилитаристы, не верящие в само существование абсолютных моральных ценностей, тем не менее справедливо претендуют на роль в обнаружении противоречий и несообразностей в конкретных этических системах[22]. С позиции ученых-эволюционистов особенно хорошо заметна нелогичность безоговорочного возвеличивания прав человека над правами всех прочих видов.
«Пролайферы» безапелляционно заявляют, что ценность жизни безгранична, с упоением поглощая громадный бифштекс. Жизнь, «лайф», в поддержку которой они так «про-», – это, вне всякого сомнения, человеческая жизнь. Что ж, ничего плохого тут, возможно, и нет, но эволюционист укажет по меньшей мере на непоследовательность. Отнюдь не самоочевидно, что абортировать месячный человеческий эмбрион – значит совершить убийство, а вот застрелить вполне смышленого взрослого слона или горную гориллу – нет.
Шесть-семь[23] миллионов лет назад в Африке жила обезьяна, приходящаяся общим предком всем современным людям и всем ныне живущим гориллам. Так вышло, что связывающие нас с этим предком промежуточные формы – Homo erectus, Homo habilis, различные представители рода Australopithecus и другие – вымерли. Точно так же вымерли и промежуточные формы, связывающие данного предка с современными гориллами. Если бы они не вымерли, если бы в африканских джунглях и саваннах обнаружились реликтовые популяции промежуточных форм, последствия были бы катастрофическими. Вы могли бы иметь детей от кого-то, кто мог бы иметь детей от кого-то, кто… – и после еще нескольких звеньев цепочки – …мог бы иметь детей от гориллы. То, что некоторые важные промежуточные представители этого непрерывного ряда взаимной скрещиваемости уже мертвы, – чистой воды невезение.
И это не просто несерьезный мысленный эксперимент. Спорить тут можно разве что о том, сколько именно промежуточных звеньев должно быть в цепочке. Но их количество никак не влияет на обоснованность следующего вывода. Ваше безапелляционное возвеличивание Homo sapiens над всеми прочими видами живых существ, бездумное предпочтение, которое вы окажете скорее человеческому эмбриону или ведущему растительный образ жизни человеку с погибшим мозгом, а не находящемуся в расцвете сил взрослому шимпанзе, ваш видовой апартеид – все это рассыпалось бы, как карточный домик. А если бы не рассыпалось, значит, сравнение с апартеидом отнюдь не беспочвенно. Раз даже при наличии непрерывного спектра живых промежуточных форм вы все равно продолжали бы настаивать на отделении «людей» от «не людей», такое разграничение можно было бы осуществлять только при помощи судов, где, как при апартеиде, решалось бы, вправе ли та или иная особь из середины спектра «сойти за человека».
Подобная эволюционистская логика отменяет далеко не всякую концепцию сугубо человеческих прав. Но она несомненно отметает наиболее экстремальные версии этой доктрины, показывая, что обособление нашего биологического вида связано со случайными эпизодами вымирания. Если бы права и нравственные законы были абсолютными в принципе, то для них не представляли бы угрозы новые зоологические открытия, сделанные где-нибудь в лесу Будонго.
Научные ценности в узком смысле
Теперь от научных ценностей в широком смысле слова мне хочется перейти к узкоспециальному аспекту этого понятия – к научным открытиям как непосредственному источнику системы ценностей. Разносторонний английский биолог сэр Джулиан Хаксли – кстати, мой предшественник на посту преподавателя зоологии в Новом колледже – пытался сделать эволюцию основой для этики, чуть ли не религии. Благом он считал все, что способствует эволюционному процессу. Точка зрения его более выдающегося, но обойденного рыцарским званием деда Томаса Генри Гексли[24] была почти противоположной. Мне ближе позиция Гексли[25].
Идеологическая одержимость Джулиана Хаксли эволюцией отчасти проистекала из его оптимистических представлений об эволюционном прогрессе[26]. В наши дни стало модным сомневаться в том, что эволюция вообще прогрессивна. Это интересная дискуссия, и у меня есть мнение на сей счет[27], но не будем отвлекаться от уже начатого разговора о том, должны ли мы в принципе обосновывать свои ценности эволюцией или еще какими бы то ни было знаниями о природе.
Нечто похожее наблюдается и с марксизмом. Вы как историк можете придерживаться научной теории, предсказывающей наступление диктатуры пролетариата. А можете исповедовать политические убеждения, согласно которым диктатура пролетариата – дело хорошее и нужно стараться ее приблизить. Для многих марксистов, собственно, оба эти утверждения справедливы, и поразительно большое их число – даже сам Маркс, похоже, не был исключением – неспособно уловить разницу между первым и вторым. Однако, строго говоря, политические предпочтения вытекают не из исторических теорий. Вполне можно быть последовательным ученым-марксистом, полагающим, что историческая закономерность неминуемо приведет к революции рабочего класса, и вместе с тем голосовать за крайних консерваторов, дабы отсрочить неизбежное. Или же, наоборот, быть убежденным марксистом с политической точки зрения, который, однако, сомневается в исторической теории Маркса и изо всех сил трудится на благо революции именно потому, что чувствует, как сильно та нуждается в помощи.
Сходным образом и эволюция может как обладать, так и не обладать тем свойством прогрессивности, что ей приписывал Джулиан Хаксли как биолог. Но независимо от того, был ли он прав относительно биологии, мы совершенно определенно не обязаны выстраивать свою систему ценностей, подражая такому прогрессу.
Противоречие станет еще острее, если мы переключим свое внимание с эволюции как таковой (и ее предполагаемого стремления к прогрессу) на дарвиновский механизм эволюции – выживание наиболее приспособленных. Томас Генри Гексли, судя по его Роменсовской лекции «Эволюция и этика», прочитанной в 1892 году, не питал на этот счет никаких иллюзий и был прав. Если вы собираетесь использовать дарвинизм в качестве моралите, то нравоучение получится ужасающим. Клыки у природы действительно кроваво-красные[28]. Самому слабому в самом деле суждено проиграть, а естественный отбор и вправду благоприятствует эгоистичным генам. Изящество соревнования между гепардами и газелями куплено огромной ценой крови и страданий предков тех и других. Древние антилопы были растерзаны, а древние хищники умирали от голода – вот почему те, кто пришел сегодня им на смену, так стройны и грациозны. Результат естественного отбора – жизнь во всех ее проявлениях – прекрасен и изобилен. Сам же процесс жесток, безжалостен и близорук.
То, что мы возникли по Дарвину, что форма нашего тела и наш головной мозг изваяны естественным отбором, – научный факт. Но отсюда еще не следует, будто мы должны любить этого равнодушного, беспощадного в своей слепоте часовщика. Как раз наоборот: общество, существующее по дарвиновским законам, – отнюдь не то общество, в котором кому-либо из моих друзей захотелось бы жить. «Дарвиновская политика» – неплохое определение для деятельности такого правительства, от чьей власти я убежал бы на сотни миль, нечто вроде крайнего тэтчеризма, ставшего вдруг общепринятым.
Я позволил себе здесь высказывание личного характера, ибо устал от того, что меня отождествляют с порочной политикой безжалостной конкуренции и обвиняют в пропаганде эгоистического образа жизни. Вскоре после победы миссис Тэтчер на выборах 1979 года профессор Стивен Роуз написал в журнале New Scientist буквально следующее:
Я не хочу сказать ни того, что агентство «Саатчи и Саатчи» наняло команду социобиологов писать речи для Тэтчер, ни даже того, что некоторые оксфордские и суссекские преподаватели университетов теперь ликуют, видя практическое осуществление тех нехитрых истин о генном эгоизме, которыми пытались заразить нас. Имеющее место совпадение модной теории с политическими событиями куда неприятнее. Однако я уверен, что когда будет писаться история случившегося в конце 1970-х годов сдвига вправо – от закона и порядка к монетаризму, а затем к нападкам на этатизм (впрочем, последнее еще под вопросом), – тогда и перемена научной моды, взять хотя бы этот переход в эволюционной теории от моделей группового отбора к моделям кин-отбора, станет выглядеть частью той общественной волны, что привела к власти сторонников Тэтчер с их позаимствованной в XIX веке концепцией неизменной, соревновательной и ксенофобской человеческой натуры.
Под «суссекским преподавателем» подразумевался Джон Мейнард Смит, и тот отправил остроумный ответ, опубликованный в следующем номере New Scientist: «Что же нам оставалось делать – сфальсифицировать уравнения?»
Роуз был одним из тех, кто возглавил тогдашние нападки на социобиологию, вдохновленные марксизмом. Очень символично, что эти марксисты, неспособные отделить свои научные исторические взгляды от повседневных политических убеждений, исходили из того, будто и мы не в состоянии отделить биологию от политики. То, что можно придерживаться некой научной точки зрения на природные механизмы эволюции и одновременно считать перенос своих академических взглядов в политическую плоскость неприемлемым, было для них просто непостижимо. Такой подход привел их к не лезущему ни в какие ворота выводу, что раз применительно к людям генный дарвинизм может оказаться политически нежелательным, то нельзя позволить ему быть научно верным[29].
Точно так же они, как и многие другие, заблуждаются насчет положительной евгеники. Исходя из того, что проводить селекцию человека по таким способностям, как скорость бега, музыкальная или математическая одаренность, было бы непростительно ни с политической, ни с моральной точки зрения, они заключают, что это невозможно (не должно быть возможно) и с позиций науки. Что ж, любому очевидно, что одно из другого не следует, и, должен вас огорчить, положительная евгеника науке не противоречит. Нет никаких причин сомневаться в том, что люди поддадутся селекции так же легко, как и коровы, собаки, злаки или куры. Надеюсь, мне не нужно уточнять, что это не значит, будто я выступаю за проведение подобной селекции.
Найдутся и такие, кто согласится, что возможна евгеника по физическим признакам, но никак не по умственным способностям. Ладно, скажут они, может, вы и сумеете вывести расу олимпийских чемпионов по плаванию, но вам никогда не удастся выведение людей с более высоким интеллектом. Либо потому, что не существует никакого общепризнанного способа измерить интеллект, либо потому, что интеллект не является единой одномерной величиной, либо потому, что он не зависит от генетической изменчивости, либо же в силу некоего сочетания этих трех утверждений.
Если вы пытаетесь спрятаться за подобной аргументацией, мой долг – снова разочаровать вас. Пусть и нет единого мнения о том, как измерять интеллект, мы все равно можем проводить селекцию в соответствии с любым из уже имеющихся спорных мерил или сразу с несколькими. Послушность собак тоже плохо поддается строгому определению, что не мешает нам осуществлять отбор по этому признаку. Пусть интеллект и не зависит от какой-то единственной переменной – то же самое, вероятно, справедливо и для удойности коров или быстроногости беговых лошадей. Тем не менее данные качества подвластны селекции, даже если мы и спорим, как их измерять и можно ли считать их изменчивость однопараметрической.
Что же касается утверждения, будто интеллект, каким способом (или способами) его ни мерь, не подвержен генетической изменчивости, то оно более или менее неверно, и это можно логически доказать, исходя из той лишь посылки, что мы умнее – согласно какому угодно определению ума – шимпанзе и всех прочих обезьян. Раз мы умнее обезьяны, жившей шесть миллионов лет назад и бывшей нашим с шимпанзе общим предком, значит, в нашей родословной существовала эволюционная тенденция к повышению интеллекта. Эволюционная тенденция к увеличению головного мозга – одна из самых впечатляющих во всей палеонтологической летописи позвоночных – совершенно точно имела место. А эволюционные тенденции возможны только при наличии генетической изменчивости по соответствующим признакам – в данном случае по размеру мозга и, предположительно, интеллекту. Итак, у наших предков существовала генетическая изменчивость по умственным способностям. В принципе возможно, что ее больше не существует, но такое исключительное обстоятельство выглядело бы странно. Даже если бы близнецовый метод[30] этого не подтверждал (а он подтверждает), мы на основании одной лишь эволюционной логики безошибочно приходим к заключению, что у нас имеется генетическая изменчивость по интеллекту, если определять его каким угодно образом как нечто, различающееся у нас и у наших предков-обезьян. Вооружившись тем же самым определением, мы могли бы при желании использовать искусственный отбор, чтобы продолжить данную эволюционную тенденцию.
Не нужно много красноречия, чтобы убедить слушателя в том, как плох был бы подобный евгенический подход с политической и этической точек зрения[31], но мы должны совершенно ясно осознавать, что именно такое оценочное суждение и есть подлинная причина нашего неприятия. Давайте не будем позволять своим оценочным суждениям навязывать нам лженаучную точку зрения о невозможности евгеники. К счастью или к несчастью, природе нет дела до таких мелочей, как человеческие ценности.
Позже Роуз объединил усилия с Леоном Кеймином, одним из главных американских противников проведения тестов IQ, и выдающимся генетиком-марксистом Ричардом Левонтином, чтобы написать книгу, в которой они воспроизвели те же самые и многие другие заблуждения[32]. Кроме того, они признали там, что мы, социобиологи, хотим быть меньшими фашистами, чем нам, по их (ошибочному) мнению, приходится быть под влиянием нашей науки. Тем не менее они попытались (тоже ошибочно) подловить нас на противоречии с тем механистическим взглядом на разум, которого придерживаемся мы – и, вероятно, они тоже.
Такая позиция находится или должна находиться в полном соответствии с принципами социобиологии, выдвигаемыми Уилсоном[33] и Докинзом. Если, однако, те ее примут, то встанут перед дилеммой – в первую очередь перед необходимостью признать врожденность почти всего поведения человека, что им, свободолюбивым людям, явно покажется непривлекательным (злой умысел, промывка мозгов и т. п.) …Дабы избежать этой проблемы, Уилсон и Докинз призывают на помощь свободу воли, которая дает нам возможность идти, коли мы захотим, против диктата наших генов.
А это, возмущаются они, возврат к беззастенчивому картезианскому дуализму. По словам Роуза и его соавторов, нельзя считать себя машиной выживания, запрограммированной своими генами, и в то же время призывать к восстанию против них.
В чем же трудность? Не вдаваясь в сложные философские проблемы детерминизма и свободы воли[34], нетрудно заметить, что мы, собственно говоря, уже сопротивляемся диктату генов. Мы восстаем против них всякий раз, когда используем контрацептивы, имея достаточно средств, чтобы вырастить ребенка. Мы восстаем, когда читаем лекции, пишем книги или сочиняем сонаты, вместо того чтобы упорно тратить время и энергию на распространение своих генов.
Тут все проще простого, вообще никаких философских затруднений. Естественный отбор эгоистичных генов снабдил нас большими мозгами, которые мы первоначально использовали для выживания в сугубо утилитарном смысле. Но коль скоро эти мозги – со своими лингвистическими и прочими способностями – уже возникли, не будет никакого противоречия в утверждении, что они стали развиваться в совершенно новых, «эмерджентных» направлениях, в том числе и враждебных интересам эгоистичных генов.
Говорить об эмерджентных – производных – свойствах вполне законно. Компьютеры, задуманные как вычислительные машины, теперь используются в качестве текстовых редакторов, шахматных игроков, энциклопедий, телефонных коммутаторов и даже, как ни прискорбно, электронных гороскопов. И в этом нет никаких фундаментальных противоречий, чтобы бить философскую тревогу. Нет их и в том, что наш головной мозг сумел обскакать – и даже обхитрить – свое дарвиновское происхождение. Подобно тому как мы бросаем вызов своим эгоистичным генам, когда играючи отвязываем радость, доставляемую сексом, от его дарвиновской функции, мы можем сесть за стол переговоров и при помощи языка разработать политику, этику и ценности, которые будут по своей сути вопиюще антидарвиновскими. Я еще вернусь к этой мысли в заключительной части лекции.
К гитлеровским извращенным наукам относился искаженный дарвинизм и, конечно, евгеника. Но, хоть это и неприятно признавать, в первой половине нашего столетия взгляды Гитлера не были оригинальными. Процитирую главу о «новой республике» – якобы дарвинистской утопии, – написанную в 1902 году:
Как же будет поступать новая республика с низшими расами? Как будет она относиться к неграм, к желтой расе?.. Что же будет с другими расами – коричневыми, грязно-белыми и желтыми, – которые не будут отвечать новым общественным нуждам?
Я думаю вот что: мир не благотворительное учреждение, и, вероятно, этим расам наступит конец… Этическая система людей в мировом государстве будет прежде всего способствовать воспроизведению всего, что есть хорошего, талантливого и прекрасного в человечестве: красивого и сильного тела, светлого и мощного ума…[35]
Автор здесь – не Адольф Гитлер, а Герберт Уэллс[36], сам себя считавший социалистом. Вот из-за подобной белиберды (а социал-дарвинисты понаписали ее немало) дарвинизм снискал себе в общественных науках дурную репутацию. Да еще какую! Но опять-таки не следует ни тем, ни иным способом пытаться извлечь политику или мораль из фактов о природе. И Гексли, и его внуку Хаксли предпочтем Давида Юма: нравственные директивы нельзя вывести из описательных посылок, или же, как это нередко формулируют устно, нельзя получить «должное» из «сущего». Откуда же тогда – с эволюционной точки зрения – взялось наше «должное»? Как мы приобрели свои ценности: моральные и эстетические, этические и политические? Пора нам от научных ценностей перейти к науке о ценностях.
Наука о ценностях
Действительно ли мы унаследовали свои ценности от далеких предков? Бремя доказательства тут лежит на тех, кто возьмется утверждать обратное. Древо жизни – дарвиновское древо – представляет собой громадные густые заросли, образованные тридцатью миллионами ветвей[37]. Мы – только крошечная веточка, затерявшаяся где-то вблизи от наружной поверхности. Она отходит от небольшого сучка, дающего также начало веточкам человекообразных обезьян, наших родственников, неподалеку от более крупного сучка всех прочих обезьян, с которыми мы тоже в родстве, откуда рукой подать до более дальней родни: кенгуру, осьминогов, стафилококков… Никто не сомневается, что все остальные ветви из тридцати миллионов унаследовали свои признаки от предков, и, как ни суди, мы, люди, тоже многим обязаны своим предкам в том, чем являемся и как выглядим. От прародителей нам достались – с более или менее значительными модификациями – кости и глаза, уши и бедра и даже (трудно будет с этим спорить) вожделения и страхи. Априори нет никаких явных причин, почему то же самое не распространялось бы и на нашу высшую умственную деятельность: на искусство и нравы, на врожденное чувство справедливости, на ценности. Отделимы ли такие проявления высшей человечности от того, что Дарвин называл неизгладимой печатью нашего низкого происхождения? Или он был прав, когда более развязно заметил в одной из своих записных книжек: «Тот, кто поймет павиана, продвинется в метафизике дальше Локка»? Не буду заниматься обзором литературы, но данный вопрос – о дарвиновской эволюции нравственности и ценностей – обсуждался часто и широко.
Основополагающая логика дарвинизма состоит в следующем. У каждого есть предки, но не у каждого есть потомки. Все мы унаследовали гены, позволяющие стать предком, ценой тех генов, что мешали стать им. Быть предком – высшая дарвиновская ценность. В мире, живущем исключительно по Дарвину, все прочие ценности второстепенны. Иначе говоря, высшая дарвиновская ценность – это выживание генов. В первом приближении можно ожидать, что все животные и растения будут неустанно трудиться во имя долгосрочного выживания находящихся в них генов.
Род людской делится на тех, кому простая логика подобных рассуждений ясна как день, и на тех, до кого она не доходит, сколько ни объясняй. Альфред Уоллес писал об этой проблеме[38] человеку, открывшему вместе с ним естественный отбор: «Мой дорогой Дарвин, я столько раз бывал поражен полной неспособностью многих умных людей отчетливо, а то и вообще понимать автоматизм и неотвратимость действия естественного отбора…»
Из тех, до кого не доходит, одни полагают, будто где-то скрыто некое активно и осознанно действующее начало, которое и производит селекцию, другие же недоумевают, почему особи должны ценить выживание своих генов больше, чем, скажем, выживание своего вида или экосистемы. Ведь, в конце-то концов, скажут эти вторые, если вид и экосистема не выживут, сгинет и сама особь, так что ценить вид и экосистему – в ее интересах. Кто решил, вопрошают они, будто выживание генов – абсолютная ценность?
Никто не решал. Это неизбежно следует из того факта, что гены находятся в организмах, ими построенных, будучи тем единственным, что способно уцелеть (в виде закодированных копий) при переходе от одного поколения организмов к другому. Таково современное изложение той мысли, которую Уоллес метко выразил словом «автоматизм». Ценности и цели отдельных особей, ставящие их на путь генного выживания, не внушены ни чудом, ни сознанием. Только прошлое – и никак не будущее – может влиять на что-либо. Животные ведут себя так, как будто борются за увеличение числа копий эгоистичного гена в будущем, по той простой и единственной причине, что они несут в себе гены, в прошлом передававшиеся предками из поколения в поколение, и находятся под влиянием этих генов. Те предки, что в свое время вели себя, как если бы самым важным для них было все, что способствует будущему выживанию их генов, передали своим потомкам гены именно подобного поведения. Вот почему и потомки в свою очередь действуют, как если бы будущее выживание собственных генов заботило их превыше всего.
Все это совершенно непредумышленный, автоматический процесс, который идет до тех пор, пока условия в будущем более или менее сходны с теми, что были в прошлом. В противном же случае он перестает быть эффективным, что нередко приводит к вымиранию. Те, кто понимает это, понимают дарвинизм. Кстати, слово «дарвинизм» придумал все тот же великодушнейший Уоллес. Я продолжу обсуждение ценностей с дарвиновских позиций на примере костей, поскольку кости, скорее всего, не заденут ничьих чувств, что могло бы отвлечь нас от темы.
Кости несовершенны: иногда они ломаются. Дикое животное, сломавшее себе ногу, вряд ли выживет в суровом мире живой природы, построенном на конкуренции. Оно будет особенно уязвимым для хищников или же не сможет ловить добычу. Так почему естественный отбор не укрепит кости так, чтобы те никогда не ломались? Мы, люди, могли бы путем селекции вывести, скажем, породу собак с костями настолько крепкими, что сломать их было бы невозможно. Отчего природа не поступает так же? По причине затрат, что подразумевает некую систему ценностей.

