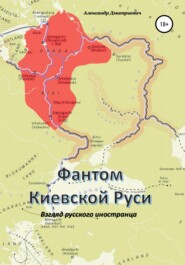 Полная версия
Полная версияФантом «Киевской Руси»
И битвы, где вместе рубились они.
Претензий нет. Он художник слова – он так это увидел.
Игорь Рюрикович
Князь Игорь на Юге продолжил рутинную политику своего «мудрого» наставника и предшественника: сбор полюдья с Юга, разборки в междоусобицах, усиление дружины и прочие обычные, привычные и часто повторяющиеся будни княжеского правления.
Просто из-за навалившейся текучки отложил на потом свой персональный «грабёж века». Возможно снова тот же, так до конца и не реализованный его предшественником.
Последующий после катастрофы на Каспийском море 914 год, Игорь начал со сбора налогов. Он заново усмирил древлян (самых воинственных членов дулебского племенного союза, обитавших в районе современных Житомира-Хмельницкого на Украине) и обложил их суровой данью. Значительно превышающей ранее собираемую Олегом. А с таким беспределом никакой «голодомор» и близко не стоял.
Это самое первое сохранившееся упоминание о деяниях Игоря.
Далее он удачно «прогнулся» перед Византией за право «с прибытком» сбывать собранную дополнительную дань, и уже в 915 году отправил войска в помощь Византии против Болгарии. Также он совсем не мешал печенегам устраивать набеги на ту же Болгарию. И закрывал глаза на их проходы через подконтрольные ему территории. Пока к 920 году они не начали угрожать уже его интересам.
О внутренней политике князя Игоря, как, впрочем, и о действиях младших князей на Севере, никаких данных не сохранилось. Но отсутствие значимых внешних операций говорит само за себя.
Главное упоминание о нем относится только к 944 году, когда он умудрился повторить все ошибки своего предшественника – Олега Вещего. Это стоило ему доверия дружины и, возможно, жизни.
А всё там начиналось вроде бы частным порядком.
Ещё в конце 930-х годов византийский император Роман начал войну против Хазарского каганата, которая кончилась для Византии не очень удачно. Это если очень дипломатично. А по сути, Византия была разгромлена. Император Роман в таких условиях решился поступить исключительно по византийски.
Большими дарами и лестью склонил (согласно хроникам) некого младшего князя Олега совершить частный «наезд» на Хазарский каганат и «отвлечь его», пока империя «зализывает» раны. Основной задумкой Византии было временно связать силы каганата. Кроме того, ожидаемые потери временного союзника автоматически приведут к военному ослаблению противоборствующих сторон. Такой вот двойной тактический выигрыш.
Поход этого Олега начинался успешно. Он захватил город Самкерц на территории Таманского острова (ныне полуострова в Краснодарском крае), но потом хазарский полководец Песах победил его. Пощадил и «уговорил» вероломно напасть уже на Византию, запуская в логово врага перевербованного «троянского коня».
Так упоминают его историю некоторые про-византийские хроники христианской Руси. В реальности же его участь была печальной. Но даже не в этом суть. Это был ответный выпад хазар.
Но можно поверить и в теорию заговоров. Слишком уж вероятно, что за разгромом русов стоит тройная подстава со стороны Византии – и хазаров занять, и русам «поумерить пыл», и наследника лишить.
По византийским хроникам того времени известно, что в 940-х из-за «действий христиан» погибает Улеб – старший сын и прямой наследник князя Игоря. Кстати, Улеб – один из вариантов написания имени Олег.
Уже более поздние русские христианские хроники (сотворённые православными монахами константинопольского патриархата) выдвинут своё «идейное» предположение: Улеб был убит отцом-язычником из-за его желания стать христианином.
Однако, «союзничество» с Византией, да и археологические находки (кресты-привески так называемого «скандинавского типа» в захоронениях до середины Х века по всей Руси) подтверждают, что в это время значительная часть дружин князей, включая дружины самого Игоря, уже были православными.
С учётом того, что князь и дружина зарабатывали на торговле с теократической Византией, а язычники, по сути, всегда были достаточно веротерпимы, то поздняя трактовка выглядит надуманной, особенно учитывая вызванные последствия.
В 941 году князь Игорь стремительно собирает все доступные ему военно-морские силы и бросает их на Царьград (Константинополь). Для такого должна быть исключительно веская причина. Русы и словене издревле славились тем, что крепко держали данное слово, даже если это могло стоить им жизни.
А вот так, разом, перечеркнуть все союзнические отношения с Византией, налаживаемые русами на протяжении всей предыдущей половины столетия, могла только очень большая кровная обида. Такая, как вероломная смерть старшего сына-наследника.
Июньский поход 941 года на Константинополь закончился для русов полным провалом. Вторжение не получилось внезапным. Болгары и стратиг (предводитель) Херсона (современного Севастополя) заблаговременно предупредили Константинополь.
Император Роман, несмотря на войну с арабами, успел подготовиться к отражению нападения. Применив «греческий огонь», его флот разгромно выиграл морское сражение. По византийским данным сумело уйти менее 10 кораблей из отряда, шедшего на Константинополь.
На секунду отвлечёмся. Как-то уж больно всё это напоминает сцену из Нового Завета (да и в Старом есть упоминание), когда северные Гог и Магог (или Гог правитель северной страны Магог; или Гог, князь Роша, Мешеха и Фувала), пошли войной на народ Божий (или на город святых по окончании тысячелетнего царства), но были повержены огнём с неба.
Терзают такие смутные подозрения. Хотя их к делу не пришьёшь.
Но возвращаемся к историческим источникам.
Итальянский эпископ Лиутпранд Кремонский (Liutprandus Cremonensis), чей отец наблюдал за сражением, описывал изначальное количество русов в 1.000 кораблей. Но если верить другим источникам, то их вполне могло быть 200-300 против 15 тяжелых трирем и дромонов.
«Роман [византийский император] велел прийти к нему кораблестроителям и сказал им: «Сейчас же отправляйтесь и немедленно оснастите те хеландии, что остались [дома]. Но разместите устройство для метания огня не только на носу, но также на корме и по обоим бортам». Итак, когда хеландии были оснащены, согласно его приказу, он посадил в них опытнейших мужей и велел им идти навстречу королю Игорю. Они отчалили; увидев их в море, король Игорь приказал своему войску взять их живьем и не убивать. Но добрый и милосердный Господь, желая не только защитить тех, кто почитает Его, поклоняется Ему, молится Ему, но и почтить их победой, укротил ветры, успокоив тем самым море; ведь иначе грекам сложно было бы метать огонь. Итак, заняв позицию в середине русского [войска], они [начали] бросать огонь во все стороны. Русы, увидев это, сразу стали бросаться с судов в море, предпочитая лучше утонуть в волнах, нежели сгореть в огне. Одни, отягощённые кольчугами и шлемами, сразу пошли на дно морское, и их более не видели, а другие, поплыв, даже в воде продолжали гореть; никто не спасся в тот день, если не сумел бежать к берегу. Ведь корабли русов из-за своего малого размера плавают и на мелководье, чего не могут греческие хеландии из-за своей глубокой осадки».
После поражения князь Игорь «не солоно хлебавши» был вынужден возвратиться назад.
Зато второй отряд русов, ранее отделившийся от основных сил, вплоть до начала осени занимался откровенным «беспределом» в западных окрестностях Константинополя, а затем и в Мраморном море. Их маломерные ладьи легко уходили от византийских боевых кораблей по мелководью, что позволяло и дальше безнаказанно совершать стремительные набеги на прибрежные поселения Византийской империи.
Но уже при попытке прорваться на Русь, предпринятой вечером 15 сентября 941 года, флот русов был настигнут византийцами в море и безжалостно потоплен возле города Килы (Κοιλία), близ входа в Босфор. Только единичным ладьям удалось прорваться и вернутся домой.
Но столь позорный конец не сломил князя Игоря. Тем более, что ему удалось удержаться на престоле, ибо кровная месть – дело святое.
Последующие события показали, что поход на Византию являлся исключительно личной местью князя Игоря, что, откровенно говоря, сильно било не только по его интересам, но и по интересам всей его дружины. А в условиях языческой Руси князь, игнорирующий интересы своей дружины – бывший князь.
Но в 944 году, через 3 года после разгрома, Игорь задумал свой второй поход на Византию. Только вот опять не сделал выводов из прошлых проблем и так и не наладил «контрразведку».
Из «Повести временных лет»: «В год 6452 (944). Игорь же собрал воинов многих: варягов, русь, и полян, и словен, и кривичей, и тиверцев, – и нанял печенегов, и заложников у них взял, – и пошел на греков в ладьях и на конях, стремясь отомстить за себя».
Только вот византийский император Роман, заранее прознавший о готовящейся ему напасти, выслал «на опережение» своих послов к выдвигающейся рати, которые предложили (фактически) щедрую виру87.
Дружинники соблазнились и отказались идти в поход. На такое решение явно повлияли воспоминания о недавних поражениях на море. На совете дружинники высказались так: «Разве знает кто – кому одолеть: нам ли, им ли? Или с морем кто в союзе? Не по земле ведь ходим, но по глубине морской: всем общая смерть».
Игорю пришлось довольствоваться малым.
В декабре 944 года был свергнут византийский император Роман. И сразу же, в 945 году новый император засылает послов на Русь, которые заключают новый мирный договор, уже весьма выгодный Византии. Он регулировал условия пребывания и торговли русских купцов в Византии, определял размеры денежных штрафов за различные проступки, устанавливал суммы выкупа за пленников (которые значительно ухудшились именно для русов). Также там было сформулировано положение о военной взаимопомощи между великим русским князем и византийским императором.
Фактически весь Х век Русь плотно следовала в фарватере византийской политики и не могла позволить себе быть слишком недоговороспособной, а потому вынужденно шла на нелёгкие компромиссы.
В итоге Византия покрыла свои убытки, а вот Русь оказалась на пороге кризиса.
Осенью того же 945 года князь Игорь, по требованию дружины, недовольной своим содержанием, отправился за данью к древлянам, которых не привлекал к своему провальному походу на Византию. Где вроде как затребовал исключительно максимальные размеры дани, а при их сборе его дружинники творили чрезмерное насилие над жителями.
За это древляне жестоко убили Игоря. Именно так объявлено в летописи Нестора, у которого, по умолчанию, князь мог покинуть свою должность только со смертью и никак иначе.
Некоторые источники утверждают, что, не получив обещанного содержания, дружина просто отказала Игорю. Из-за этого ему пришлось вынужденно уйти на покой. И представился он не ранее 949 года. При этом он вполне мог оставаться князем Киевским, так как его сын Святослав на 949 год числился по византийским хроникам князем Новгородским.
Поэтому фраза про его убийство древлянами вполне могла быть использована в переносном смысле, подразумевая, что как военноначальник (князь) он действительно прекратил своё существование в 945 году.
Княгиня Ольга
Начиная с 930-х годов началось активное каменное градостроительство на Руси.
Стольные грады стали превращаться из зачастую временных военных лагерей-мастерских в административно-ремесленные центры. Отстраивались Новгород, Смоленск, Полоцк, Псков, Ростов, Киев.
В 940-х в городах, а затем и по погостам стали строить христианские храмы.
Тут надо просто уточнить, что погост – это не только кладбище в понимании наших дедушек и бабушек. Именно княгиня Ольга впервые ввела такое административно-территориальное деление. Для начала она поделила Новгородскую землю на погосты и установила для них уроки. С тех пор погост (до Петра I) долго ассоциировался с местом остановки князя и его дружины во время сбора урока (дани). Точнее было бы именовать «погостьем», то есть постоялым двором, от слова «погостить».
Да, а административно-территориальная единица с названием «погост» также использовалась и в Швеции. Странно, не правда ли?
Строительный бум напрямую связывают с именем Ольги, жены Игоря Рюриковича, матери Святослава Игоревича и, возможно, дочери Вещего Олега.
По Степенной книге ХVI века, а также по Ростовскому и Новгородскому манускриптам (по Татищеву) и Типографской летописи, Ольга родилась в 890 году и скорее всего была дочерью Вещего Олега.
Вещий Олег женил ее на Игоре в 903 году. Она родила Святослава в 920 и умерла в 969 году в возрасте 80 лет. В 957 году Ольга официально крестилась в Константинополе.
По археологическим данным Киев стал постоянной великокняжеской ставкой только в 930-х годах. Можно предположить, что вопросом обустройства Киева, в частности, и Руси, в общем, Ольга занялась еще при княжении её мужа Игоря. В 930 году ей было 40 лет.
По тем же археологическим данным, христианизация Южной Руси активно началась с ІХ века. Массовое строительство храмов на Юге могло быть связано и с тем, что к середине Х века христиан уже было много, как и с тем, что Рюриковичи таким образом выказывали Константинополю свои добрые намерения после «противостояния» 941-944 годов.
Не исключён и материализм язычников – византийцы победили потому, что их бог оказался сильнее. Особенно, если учесть, что «греческий огонь» в летописях поминают исключительно как кару богов. В этом случае христианизация дружин могла быть не постепенной (в течение всего ІХ-Х века), а резко возросшей после 945 года. В середине Х века в дружинах уже имело место устойчивое христианское присутствие.
В конце 940-х Ольга (исторический факт) установила максимальный размер полюдья, по сути, признала требования древлян вполне справедливыми. Именно тех древлян, которые якобы убили ее мужа! И там тоже ввела систему погостов – центров торговли, обмена и сбора податей.
Теперь, особенно бесправные территории Юга, обирались тиунами (сельскими старостами) в рамках определенных правил И уже не подвергались ежегодным грабежам вооруженными отрядами, действующими от имени князя.
Ольга стала создавать прообраз государства в его современном понимании.
В 950-х годах начался средневековый климатический оптимум, который позволил распространить продуктивное аграрное производство далеко на север. Это привело к небывалому росту населения в Центральной и Северной Руси88, который продолжался вплоть до конца XIII века. А это потребовало изменения подходов к сельскому труду. Старые методы уже не могли решить всё более нарастающие проблемы с продовольствием.
Ольгу следует благодарить за превращение Руси в земледельческое государство. Без её преобразований плотность населения скорее всего оставалась бы и далее на чрезвычайно низком уровне. А христианские храмы, созданные Ольгой, не только заботились о спасении и благополучии своих мирян, но также стали «очагами» распространения знаний.
Одновременно Ольга была скрытым или явным политическим агентом Византийской империи. Своими действиями она всё больше подчиняла Русь византийской бюрократии и теократии. Именно это в дальнейшем превратит Русь в жалкое сборище мелких грызущихся княжеских вотчин, которые на столетия попадут под власть соседей – монголов (восток) и католиков (запад).
Построенные Ольгой православные церкви, с одной стороны, несли благо простому люду и возносили осанну89 князям, ежедневно и еженощно возвеличивая их до посланцев божьих. Но при этом, с другой стороны, церкви управлялись духовенством из Византийской империи, существованию которой языческая Русь постоянно угрожала. Прямо или косвенно.
Именно так Византийская империя сумела нанести коварный удар по умам «столпов власти». И это явилось чрезвычайно наглядным примером использования «мягкой силы». Воистину: «Бойтесь данайцев, дары приносящих»90.
Киев, как резиденция Ольги и центр быстро формирующейся православно-христианской бюрократии, достаточно обоснованно стал претендовать на этакий «продвинутый» княжеский домен91 и, соответственно, на столицу всея Руси.
Тем более, что в других центрах – Новгороде и Ростове, положение княжеской власти жестко регулировалась рядами, а сами князья воспринимались просто как одно из сословий, причем даже не всегда самое важное. На местах главенствовали волхвы – хранители традиций и вершители человеческих судеб.
Сейчас, к сожалению, историки больше спорят, как Ольга [а скорее её сын] отомстила древлянам за убийство мужа [если таковая месть вообще была исполнена], а также создают теории (противоречащие летописям) о её возрасте. При этом они почти полностью обходят стороной все сделанные ею административные преобразования, которые, по сути, определили всю дальнейшую историю Руси.
По теориям современных историков Ольга была незнатной дамой, которая в 18-25 лет (высчитанные годы рождения 920-927) стала регентом и самостоятельной политической силой при трёхлетнем сыне Святославе. Что весьма и весьма необычное событие при языческом военно-родовом строе. По этой теории Ольга была единственной женщиной княгиней/регентом за почти 800 летнюю историю династии Рюриковичей. Что весьма и весьма сомнительно.
Теория о более позднем (чем было указано в летописях) рождении Ольги появилась из-за средневековых христианских мифов. Ольга была признана равноапостольной святой, а ее сын Святослав Игоревич заклеймён как ярый язычник. Соответственно, была придумана трогательная история о том, что Ольга могла делать свои благие про-христианские преобразования только пока её сын был недееспособен.
Так, в 959 году Ольга договаривается о крещении Руси с королем Германии Оттоном І Великим, но в 961 году Святослав высылает присланных епископов во главе с Адальбертом. Часть из них погибает при весьма туманных обстоятельствах. Но, по укоренившейся уже тогда привычке, во всём сразу обвинили русов.
Летописцы совершенно не учитывали, что Германия была за Римом и права короля в римско-католической стране были ничуть не лучше, чем у князей при волхвах. А это чрезвычайно сильно отличалось от «наглядного» примера Византии, где церковь проповедовала абсолютную власть Августа-Басилевса.
Монахи, почитающие Ольгу святой, и открыто порицающие Святослава язычником, искренне верили, что при Святославе «добрые» дела были совершенно невозможны, а значит на Руси что-то изменилось. Исходя из этого было сделано предположение, что между 959 и 961 годами вся полнота власти перешла к Святославу.
Из-за этого возникла двойственность, которая потом привела к путанице с правильным датировками годов рождения Ольги и Святослава. А так как и после 960 года отношения Ольги и Святослава оставались тёплыми (согласно всем доступным источникам), то из этого делалось «логичное» предположение, что Святослав вырос, а мать была вынуждена добровольно уступить ему власть.
А летописи, противоречащие этой теории, были признаны недостоверными.
Короче, что перо не выпишет – бумага стерпит.
Святослав Игоревич
От союза Игоря Рюриковича и Ольги в 920 году появился на свет Святослав Игоревич.
В 945 году он стал старшим князем Руси после смерти (отстранения от дел) отца. На тот момент он состоял князем-воеводой Севера со столом в Новгороде (по Константину Багрянородному, современнику и корреспонденту императора Византии).
А уж если поверить современным историкам-теоретикам, то Игорь сам управлял крупнейшей вотчиной и командовал ратью в возрасте 3 (трех!) лет. Вот что писал Константин Багрянородный в 949 году в своём сочинении «Об управлении империей»: «… приходящие из внешней Росии в Константинополь моноксилы92 являются одни из Немогарда, в котором сидел Сфендослав, сын Ингора, архонта Росии».
По археологическим данным масштабное строительство на Руси началось не ранее 930-х годов. Так как с этим строительством современники неизменно связывали имя Ольги, то получается, что она начала свои преобразования ещё при отце Святослава и продолжила их во времена правления сына, пока тот был занят ратными делами – самым важным занятием языческого князя.
Святослав никак не мешал Ольге медленно и постепенно «христианизировать» страну. Даже выделял существенные средства на строительство христианских храмов и каменных домов.
И это вполне понятно. Святослав имел слишком наглядный образ «шаткого» положения князя – на примере своего отца, от которого отказались дружинники. И делал всё, чтобы как можно сильнее упрочить свои собственные позиции.
Это действительно ему могло дать христианство, где князь как «помазанник божий» мог «володеть и судить» по праву, данному ему Богом. Да и отчитываться придётся только перед Ним. И никаких тебе «замшелых» традиций, где всяким сморчкам-волхвам позволено указывать как жить и кем быть.
Много позже православная церковь, в лице святителя Димитрия Ростовского, подберёт этому окончательную формулировку: «… лицо и сан Христианского Царя являются на земле живым образом и подобием Христа Царя, живущего на небесах. Как человек по душе своей есть образ и подобие Божие, так и Христос Господень, Помазанник Божий, по своему Царскому сану есть образ и подобие Христа Господа».
Вот так, ни больше, ни меньше.
В 957 году Ольга официально крестилась в Константинополе. Она также попыталась приобщить своего сына Святослава к христианству, но он ответил отказом и сильно «гневался» (если верить поздним христианским монахам-хроникёрам).
Святослав слишком хорошо понимал, что от смерти и безвестности его отделяет только уважение дружины, на тот момент ещё в большинстве своём языческой.
Это подтверждает тот факт, что князь всё ещё оставался простым выборным воеводой, которого могли снять и заменить на более дерзкого или удачливого. Христианское смирение в те времена совершенно не котировалось у русов. А принцип «Акела промахнулся!» и тогда во всю действовал.
Другие источники, правда, глумливо утверждали, что на «категорическое» неприятие христианства его сподвигла обида за неудачное сватовство к сестре византийского императора и уж совсем малые дары, полученные от Византии в качестве отступного. Возможно, именно это не позволило Руси получить первого «православного» князя уже в 957 году.
Пока Ольга отстаивала Русь, Святослав успешно командовал своим южным войском:
– в конце 940-х подавил все мятежи на юге;
– в 950-х в междоусобной стычке разорил Гнёздово (прото-Смоленск) и расправился со всей местной знатью;
– в 950-960-е года проводил рейды против Хазарского каганата. В 960-м хазарский каган Иосив писал в Кордовский халифат, что ведёт с русами «упорную войну», не пуская их в море и по суше к Дербенту, иначе они, по его словам, могли бы завоевать все исламские земли до Багдада (Хаздай ибн Шафрут, 960);
– в 965 году был разграблен Саркел (около современного Волгодонска);
– в 966 году были разгромлены и приведены к дани вятичи Юго-Востока (позднее Рязанское княжество);
– в 967 году между Византией и Болгарией разгорелся конфликт, и император Никифор Фока за взятку в размере 15 кентинариев золота (примерно 455 кг) привлёк Святослава.
Начиная с 967 года, Святослав начинает неоднократно сообщать княгине Ольге о своих планах по переносу ставки Руси далее по Дунаю в Переяславец. Место там более удобное, да и расположено на пересечении крупных торговых путей.
«В год 6475 (967). Пошел Святослав на Дунай на болгар. И бились обе стороны, и одолел Святослав болгар, и взял городов их 80 по Дунаю, и сел княжить там в Переяславце, беря дань с греков.
В год 6477 (969). Не любо мне сидеть в Киеве, хочу жить в Переяславце на Дунае – ибо там середина земли моей, туда стекаются все блага: из Греческой земли – золото, паволоки, вина, различные плоды, из Чехии и из Венгрии серебро и кони, из Руси же меха и воск, мед и рабы».
Но так и не суждено было стать Переяславцу очередной стоянкой-столицей Руси, в связи с откровенно подлой подставой Византии, которая уже гарантированно отправила Святослава в мир иной.
И вот как это произошло.
В 968/969 годах Святославу сначала пришлось отложить свои планы по запланированному захвату Болгарии и возвратиться в Киев для отражения половецкого набега. В отместку он повторно разграбил Саркел (около современного Волгодонска), Итиль (около современного Волгограда) и Семендер (современный Дагестан), окончательно уничтожил королевство буртасов и взял на меч город Булгар (около современной Казани).
Саркел и Тмутаракань (ныне поселок Тамань Краснодарского края на побережье Керченского пролива) были оккупированы вплоть до 980-х. Фактически это уничтожило Хазарский каганат. Он не оправился после такого разгрома и навсегда исчез со страниц истории.

