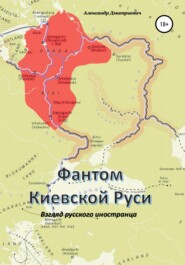 Полная версия
Полная версияФантом «Киевской Руси»
Под влиянием христианства Аскольд и Дир достаточно быстро стали считать себя помазанниками божьими, что для северян было откровенно «не по понятиям». Вещий Олег чрезвычайно наглядно показал им всю степень их заблуждений. И что «покровительство» они получили явно не от того бога73.
Из летописи Нестора: «В год 6390 (882). Выступил в поход Олег, взяв с собою много воинов: варягов, чудь, словен, мерю, весь, кривичей, и пришел к Смоленску с кривичами, и принял власть в городе, и посадил в нем своего мужа. Оттуда отправился вниз, и взял Любеч, и также посадил мужа своего. И пришли к горам Киевским, и узнал Олег, что княжат тут Аскольд и Дир. Спрятал он одних воинов в ладьях, а других оставил позади, и сам приступил, неся младенца Игоря. И подплыл к Угорской горе, спрятав своих воинов, и послал к Аскольду и Диру, говоря им, что-де «мы купцы, идем в Греки от Олега и княжича Игоря. Придите к нам, к родичам своим». Когда же Аскольд и Дир пришли, выскочили все остальные из ладей, и сказал Олег Аскольду и Диру: «Не князья вы и не княжеского рода, но я княжеского рода», и показал Игоря: «А это сын Рюрика». И убили Аскольда и Дира, отнесли на гору и погребли Аскольда на горе, которая называется ныне Угорской, где теперь Ольмин двор; на той могиле Ольма поставил церковь святого Николы; а Дирова могила – за церковью святой Ирины. И сел Олег, княжа, в Киеве, и сказал Олег: «Да будет это мать городам русским»74. И были у него варяги, и славяне, и прочие, прозвавшиеся русью. Тот Олег начал ставить города и установил дани словенам, и кривичам, и мери, и установил варягам давать дань от Новгорода по 300 гривен ежегодно ради сохранения мира, что и давалось варягам до самой смерти Ярослава.
В год 6391 (883). Начал Олег воевать против древлян и, покорив их, брал дань с них по черной кунице.
В год 6392 (884). Пошел Олег на северян, и победил северян, и возложил на них легкую дань, и не велел им платить дань хазарам, сказав: «Я враг их и вам (им платить) незачем».
В год 6393 (885). Послал (Олег) к радимичам, спрашивая: «Кому даете дань?». Они же ответили: «Хазарам». И сказал им Олег: «Не давайте хазарам, но платите мне». И дали Олегу по щелягу, как и хазарам давали. И властвовал Олег над полянами, и древлянами, и северянами, и радимичами, а с уличами и тиверцами воевал.»
Просто оцените, как легко и изящно киевский монах XII века принизил саму суть похода Олега, этак мимоходом отметив его подлость как воина, а затем быстро уводя описание в красоты Киева, которые дальше трансформировались в весьма удивительный для тогдашнего языческого князя едва ли не канонический (!) парафраз75 священного писания о «матери всем нам». Поверьте, намного понятней была бы для современников Олега не менее пафосная фраза: «Да будет Киев отцом над городами Рюриковичей!». Звучало бы издевательски, но хоть весело.
Вот до чего довело желание одного властолюбивого потомка провозгласить только что завоёванный Киев главным городом Руси!
Просто представьте, что в 1945, когда ещё только-только водружено над Рейстагом красное знамя победы, а Сталин уже гордо объявляет всему миру: «Да станет Берлин столицей Советского Союза и будет вечно править городами русскими!»
Оценили какой бы был эффект?
Да и вообще, все эти высосанные из разных пальцев теории о начале Руси из Киевских земель откровенно убоги. Просто очередной сериал «Как терпилам завоевать мир, не привлекая внимания вертухаев»76.
Тем более, что по археологическим данным постоянная княжеская ставка в Киеве появилась только через 50 лет в 930-х годах, и до сих пор непонятно, кто же тогда умудрялся восседать на этом «главном престоле».
Как бы то ни было, но князь Олег свою основную задачу (задуманную ещё Рюриком) выполнил. Он установил контроль над днепровским торговым путём к Чёрному морю. Теперь оставалось только «закрепить» успех и создать безопасные условия для торговли на всём юго-западе [Русской] равнины. Для этого Киев, Чернигов, Смоленск-Гнёздово должны были обладать ратными войсками.
Или говоря современным языком, некими СОБРами – специальными отрядами быстрого реагирования на любые возникающие угрозы. Что при явной малочисленности русов являлось весьма сложной задачей. Одно дело захватить, а другое – надёжно удержать.
И тогда было найдено «временное» решение, оказавшееся весьма действенным. Если на Севере дань на содержание княжеских дружин давали «по ряду», то на юге разрешили брать «по мечу». Забирай, сколько сможешь. Окупационный тотальный грабёж в чистом виде.
А так как до второй половины Х века князья являлись (по обычаю) в первую очередь воеводами, то они находились там, где этого требовала текущая военно-политическая обстановка или дипломатическая необходимость.
И временные княжеские ставки стали быстро смещаться на выделяемые им южные земли. Вскоре южные территории (с 882 года), оккупированные Олегом, окончательно стали для них главным источником полюдья. Этаким сбором дани без определённого размера, считай без всяких ограничений. В отличие от «северных налогов» (дани), жёстко ограниченных межплеменными соглашениями.
И это при том, что Юг был заселён значительно плотнее Севера. Но основу его составляло покорное земледельческое население, исправно платившее дань очередным пришлым захватчикам.
Зато удачное расположение позволяло «новоявленным хозяевам» оперативно сбывать собираемую дань в Византию, с последующим обменом на полезные потребительские товары и предметы роскоши.
Сам сбор дани «по мечу», в отличие от фиксированного северного сбора «по ряду», давал прекрасную возможность не вести подробную отчётность, а допускать с собранной данью разные «вольности».
Просто сравните.
Размер дани Северо-Запада (Новгорода) «по ряду» достаточно точно известен – на содержание войска ежегодно выделялся фиксированный налог в 300 гривен серебром, что эквивалентно 60 кг или 3350 рублей серебром по курсу 1764-1897 года, что очень мало для ключевого пункта Волжского торгового пути. Это скорее знак уважения старшему, чем настоящая дань. При этом Новгород платил больше других регионов Севера. А княжил там не кто иной, а Игорь сын Рюрика.
А вот на Юге сбор дани был организован просто. В течение ноября-апреля княжеская дружина во главе с князем Олегом, или отдельные группы в сотню-другую ратников объезжали все подчинённые им сёла и города. Кормились за счет принимающей стороны и брали налогов столько, сколько могли собрать. При этом зорко следили, чтобы на подмандатных территориях не заводились «конкуренты». В конце апреля, с началом речной навигации, все набранное добро (включая «живой товар») загружалось на ладьи и по Днепру отправлялись в Византию на реализацию.
Хотя и это было не так просто. Существовала такая каверза как днепровские пороги – выходы горных пород в русле реки. Они очень сильно затрудняли судоходство. Но выход находился – выручал «живой товар», который вывозился на невольничьи рынки. Беплатная тягловая сила.
И такая проблема просуществовала до ХХ века!77
А вот как процесс такого сбора дани описывал Византийский император Константин Багрянородный в своем трактате «Об управлении империей» (середина Х века): «Зимний же и суровый образ жизни тех самых росов таков. Когда наступит ноябрь, их князья выходят со всеми россами из Киева и отправляются в полюдье, то есть круговой обход, а именно – в славянские земли древлян, дреговичей, кривичей, северян и остальных славян, платящих дань росам. Кормясь там в течение зимы, они в апреле, когда растает лёд на Днепре, возвращаются в Киев, собирают и оснащают свои корабли и отправляются в Византию».
Получается, что к завоеванным украинским землям отношение вообще было исключительно потребительское. Захват Киева позволил отстранить конкурентов и самим «оседлать» прямую торговлю с Византией. Только вот чтобы покупать высокотехнологичные товары и предметы роскоши из Византии, требовалось что-то мало-мальски ценное продать. И княжеские дружины, устанавливая произвольные налоги, забирали столько сколько могли.
В значительной мере живым товаром, который собирался в Киеве и чохом78 продавался в Византию. Фактически продолжая прежние «фискальные традиции» кочевников79.
Покорная Южная Русь была откровенно чужда Северу, где господствующим классом являлась не общинная знать, а дружинное сословие во главе с князем и боярами (старшими дружинниками).
На Севере ценилась воинская доблесть, а южные феодальные землевладельцы и их данники (хлебопашцы) воспринимались исключительно как сельские тиуны и смерды. В понимании северян все смерды – малоценный человеческий ресурс (расходный материал), а не серьёзный субъект власти или управления.
Малозаселенная северная Русь никогда не имела больших социальных дистанций и уровень взаимовыручки и коллективизма там был значительно выше. Без этого в зоне рискованного земледелия и при отсутствием серьёзных оборонительных преград против внешних врагов – просто не выжить. Помогать же можно только своим, по принципу: сегодня – я, а завтра – ты. Это требует высокого уровня доверия и чувства единой принадлежности.
Южное же хуторское (единоличное, индивидуальное) земледелие было относительно безопасным, а большое количество населения и природные условия позволяло создавать условия – моя-хата-с-краю, что долго мешало их реальному единению.
Эта дихотомия (раздвоенность) Юга и Севера была заметна даже в законах Руси. Так в начале XI века, когда языческие нормы были ещё сильны, северные венеды (словене) были особо отмечены в «Русской Правде» Ярослава Мудрого как равные русам, купчинам, ябедникам (судейским), мечникам (приставам), изгоям (бывшим княжичам) и гридням (дружинникам).
Про южан отдельно не упоминалось. Их вообще не почитали за равных80. Подтверждением служат наглядные выдержки из «Русской Правды» Ярослава Мудрого (1016):
«1. Если убьет муж мужа, то мстить брату за брата, или отцу, или сыну, или двоюродному брату, или сыну брата; если никто <из них> не будет за него мстить, то назначить 80 гривен за убитого, если он княжий муж или княжеский тиун; если он будет русин, или гридин, или купец, или боярский тиун, или мечник, или изгой, или Словенин, то назначить за него 40 гривен.
…
11. О княжеском отроке. Если за княжеского отрока, или за конюха, или за повара, то <вира> 40 гривен.
12. А за тиуна огнищного и за конюшего – 80 гривен.
13. А за тиуна княжеского сельского или руководящего пахотными работами – 12 гривен.
14. А за рядовича – 5 гривен. Столько же и за боярского <рядовича>.
15. О ремесленнике и ремесленнице. А за ремесленника и за ремесленницу – 12 гривен.
16. А за смерда и холопа 5 гривен, а за робу – 6 гривен.
17. А за кормильца 12 гривен, столько же и за кормилицу, хотя это будет холоп или роба.»
Бурное столетие
Забегая вперёд, надо отметить, что политическая жизнь языческой Руси в течение столетия между 886 и 988 годами, была удивительно насыщенной даже для тех бурных времён.
Старший рода Рюриковичей снимал дань с Юга в рамках полюдья и «прибыльно» сбывал его в Византию. Тем самым содержал и наращивал свою дружину.
Младшие Рюриковичи «матерели» на Севере и создавали из местных и пришлых лихих людей свои личные дружины (под чутким руководством старшего). Потом, на пике своей силы, вся эта рать81 с переменным успехом нападала на соседей:
Вещий Олег: в 913 году с 20.000 ратниками организовал успешнейший налет на Арран и Ширван (современный Дагестан и Азербайджан). По возвращению армия Олега была обманута Хазарским каганом и уничтожена на Волжском волоке (в районе современного Волгограда).
Игорь Рюрикович: в 941-944 годах организовал с 20.000 ратниками налет на столичную провинцию Византийской империи (в рамках кровной мести). Хотя византийцы разгромили основной флот русов, но оставшиеся ратники регулярно высаживались на берег и несколько месяцев терроризировали столичную провинцию. От следующей волны русов Византии пришлось заранее откупиться.
Святослав Игоревич: в 967-972 годах с 30.000 ратников разгромил и уничтожил Хазарский каганат, оккупировал Болгарию, перенес свою ставку в Переславец на Дунае, но был побежден Византией, «милостиво» отпущен с трофеями, а затем убит половцами благодаря своевременной «наводке» из Константинополя.
При этом надо учитывать, что князья Руси изначально находились в достаточно сильной зависимости от Византийской империи, где постоянно реализовывали собираемую дань. А Византийская империя, в свою очередь, выгодно нанимала наёмников из отрядов русов за звонкое золото.
Нарушения взаимовыгодных взаимоотношений с Константинополем приводили к «замораживанию» торговли, что вызывало неудовольствие дружины, которая переставала получать свои заслуженные «дивиденды». Это ставило старших князей в достаточно жёсткие «рамки приличий». Византию старались без особой нужды «не щипать» и стремились к максимальному сближению.
Тем более, что в Х веке всё население Руси никак не могло превышать 2,0 млн человек, а скорее было в 2-3 раза меньше82. Таким оно и сохранялось вплоть до демографического взрыва ХІ века.
В Византии же проживало от 9,0 млн (959) и до 12,0 млн человек (1025).
Разница, как видите, весьма и весьма существенная.
Но Византийскую империю вечно агрессивная Русь всё же сильно беспокоила. А потому она всеми способами стремилась ограничить её силу, постоянно стравливая с другими не менее активными геополитическими игроками. Это, как ни удивительно, до поры до времени только усиливало Русь. Такой вот побочный эффект «а мы крепчаем».
Несмотря на явную зависимость от «кормящей руки», северные варвары, после очередных политических игрищ и подстав Константинополя, совершенно срывались «с нарезки» и разносили целые провинции Византийской империи.
При этом, с каждым 30-летним циклом, сила таких ударов возрастала. Так, если ещё в 910-х Русь была неспособна противостоять Хазарскому каганату, то уже в 970-х под её ударами Хазарский каганат полностью прекратил своё существование.
Не произойди крещения Владимира Святославовича в 988 году, он бы, скорее всего, разгромил и/или разграбил Византию. Где-нибудь в конце своего правления в 1000-х. Тем самым Византийская империя была бы вычеркнута из списка великих держав на 70 лет раньше. А так она будет разбита турками в битве при Манзикерте в 1071 году, а все её азиатские владения оккупированы турецким султанатом. И только крестовые походы (начиная с 1096 года) спасут древнюю империю от полного забвения. Но это просто пример альтернативного хода событий. Жаль, что история не терпит сослагательного наклонения…
Византия, несмотря на свое гордое наименование, экономическую, культурную и политическую силу, была в военном плане достаточно слабой.
А вот Русь стабильно наращивала свою мощь.
К концу Х и началу ХІ века византийские императоры были способными выставлять на важные сражения не более 10.000 ратников (наёмников за золото) против примерно 40.000 ратников Руси (мобилизованного мужского населения и наёмников).
Не имея возможности влиять на Русь военными способами, Византия весьма успешно использовала политические и культурологические методы, опираясь на христиан Юга. Она подогревала амбиции, златолюбие и честолюбие князей, якобы недостойно ограниченных рамками языческого общества.
И коварно намекала на некую абсолютную власть «богоизбранных», которая давно и безоговорочно принята в «продвинутом» христианском обществе. Только вот никогда особо не заостряла внимания, что согласившимся на это, хоть и не явно, но придется следовать в фарватере политики византийских императоров.
Политические центры Руси
Согласно трудам арабского географа Аль-Бальхи, в 920-х годах Русь состояла из трёх основных центров и соответственно трёх основных земель, разделённых водоразделами рек впадающих в Балтийское, Каспийское и Черное моря соответственно:
– Северо-Запад с центром в Словенске (Славия),
– Северо-Восток с центром в Сарске (Салау),
– Юг с центром в Киеве (Кияба).
Словенск (позднее Новгород), как и все остальные крупные поселения на Северо-Западе, являлись родоначальниками Руси, но при этом и источниками постоянного «русского бунта, бессмысленного и беспощадного». Местное население и знать воспринимали князей исключительно как верховных воевод. Там жёстко пресекались все попытки обложить население повышенной данью или получить власти больше положенного.
Сарск (позднее Ростов), как и весь Северо-Восток, твёрдо держался «духовных скреп» и нетерпимости. Там вначале жрецы-волхвы, а потом уже и православные патриархи, при полной поддержке общества, наставляли князей как жить по обычаям и по справедливости. Вероотступничество князей или их пренебрежение обычаям могло вполне караться смертью.
Кияба (Киев), да как и Юг в целом, держался на подчинении и христианском смирении. Это был единственный регион Руси с существенным присутствием последователей христианского учения и привнесённой ими верой в князей, данных им исключительно «божиею милостью». Киев контролировал области с покорным населением, послушно платившем никем и ничем не ограниченные поборы. Сам Киев был очень удобно расположен для реализации дани (налогов) и обмена их на полезные товары в Византии. Киев был вполне комфортным местом для создания «престижного» княжеского домена (владения).
Из Абу Исхак аль-Истахри в «Китаб ал-масалик ва-л-мамалик»: «И русов три группы. Группа, ближайшая к Булгару, и царь их в городе, называемом Куйаба, и он больше Булгара. И группа самая верхняя из них, называемая ас-Славийа, и царь их в городе Салау, и группа их, называемая ал-Арсанийа, и царь их сидит в Арсе, городе их. <…> Вывозят из Арсы черных соболей, черных лисиц и олово, и некоторое число рабов».
Языческие Сарск и Словенск в конце Х и начале XI века уступили свое социально-экономическое влияние возведённым по соседству христианским Ростову Великому и Новгороду Великому.
Русские летописцы ХІІ века, включая Нестора, ошибочно ссылались на названия поздних христианских центров, когда писали про расположенные в той же местности более древние языческие центры. Но для упрощения вполне можно пользоваться современными названиями. Так понятней83.
Вещий Олег – бесславный конец
Но возвратимся немного назад, к последовательному изложению событий.
Вещий Олег не угомонился после захвата и покорения Юга. Для начала он сделал Русь временным союзником Византийской империи84, что позволило заручиться её всесторонней поддержкой.
Византия, в свою очередь, получила инструмент как для давления на воинственных соседей, так и для решения своих внутренних проблем. Вот лишь два весьма характерных упоминания:
– Византийский патриарх Николай Мистик в 901-906 годах открыто угрожал Болгарии вторжением русов.
– В 911 году более 700 наемников русов участвовали в византийской экспедиции на оккупированный арабами Крит, который закончился неудачно.
Благодаря такому союзу, Олег создал эффективный канал реализации собираемой дани, что было крайне необходимо для увеличения и усиления дружины. Что позволило задумать и начать подготовку к «набегу века», который должен был обессмертить его имя.
Он планировал спуститься по Днепру и, обойдя Крым, войти в Азовское море. Далее подняться по Дону, перетащить корабли по волго-донскому волоку, а уже потом спуститься по Волге (Итилю) «в море Хвалынское». Там раскинулись богатейшие земли Аррана и Ширвана (современный Дагестан и Азербайджан). Ну а дальше вдоволь порезвиться аки голодный лис среди тучных крольчат.
Только вот для этого требовалось «перетереть с местными смотрящими», дабы поход на Арран и Ширван не стал непрерывной чередой приграничных стычек:
– с Византийской империей – без её разрешения флот русов не мог проплыть в Азовское море вдоль Крыма и через Керченский пролив;
– с Хазарским каганатом – получить разрешение на использование волго-донского волока.
В 911 году Русь, в лице Вещего Олега и пятнадцати послов от великих князей и бояр Руси, с одной стороны, и Византийская империя, в лице императора Льва VI, его брата Александра и сына Льва Константина, с другой стороны, подписали вполне достойный торговый договор, где русам было подтверждено право прохода мимо Крыма и через Керченский пролив.
Для Византии этот договор был выгоден. Русы грабили и ослабляли конкурентов, да и сами гибли в больших количествах, снижая потенциал военных рисков для Византии.
В 912 году Хазарский каганат начал войну с прикаспийскими ханствами Дербентом и Ширваном на побережье Каспийского моря. Олег, оценив обстановку, моментально достиг соглашения с каганатом «о дружбе и сотрудничестве». Хазарский каганат милостиво «принимал помощь», а за это разрешал русам проход в Каспийское море под Дону, и через волок к Волге … всего за половину добычи.
К 913 году русы смогли организовать задуманный «набег века». Собрали до 500 кораблей, каждый из которых мог принять до 40 бойцов, всего до 20.000 русов (40.000 по летописям), что вдвое больше, чем участвовало в походе на Царьград.
Благополучно добравшись до Каспия, русы разделились на отряды и начали разорять западное побережье Каспийского моря – провинции Арран и Ширван.
Из летописи Атши-Багуану: «… в Ширване (г. Баку) русы грабили несколько месяцев, устроив грандиозную резню».
По дороге назад домой, в Итиле (в районе современного Волгограда) русы честно передали половину добычи для хазарского кагана. Всё в рамках исполнения ранее заключённой сделки. Однако перед самым волоком, где русы готовились к перетаскиванию своих судов по суше к Дону, на них вероломно напала каганская гвардия (якобы под давлением возмущённых мусульманских и христианских общин Итила), нарушая достигнутое ранее соглашение (что весьма характерно).
Даже всесильный каган «ну, никак» не смог предотвратить такой всплеск «народного гнева».
Побоище закончилось тем, что только менее 5.000 русов смогли уйти по Волге, бросив добычу. Но и далее, уже на правобережье Средней Волги, ослабленных руссов сильно побили буртасы (также находившиеся в полном подчинении у Хазарского каганата).
Такой вот «кидок кидка». Воистину, и на самого хитрого законника иногда находится управа в виде законного беззакония.
Этот поход вёл князь Олег Вещий85. Ну, или должен был вести, но не смог из-за преклонного возраста или иной какой хвори. История это обстоятельство умалчивает. Но, судя по всему, всё-таки он сам.
После столь бесславного разгрома любой выборный князь, по всем языческим нормам и правилам, моментально терял весь свой авторитет, а с ним и должность воеводы.
Тем более, что достойная кандидатура у дружины имелась прямо под рукой – Игорь Рюрикович. «Подопечный» Олега, который до того княжил в Словенске-Новгороде на правах второго по старшинству. А вот на время своего похода Олег оставил Игоря местоблюдителем в Киеве (предположительно, но всё равно слишком опрометчиво).
Без особых проволочек Игорь был призван (избран) верховным князем-воеводой и сразу начал передислокацию своего личного войска на Юг.
А вот Вещий (он же Мудрый) Олег был вынужден возвратиться на Север в «почётную» отставку или ссылку. Радуясь, что живой. Тем более, что новгородские хроники уверенно подтверждают смерть Вещего Олега в 922 году (на момент смерти ему уже было около 70 лет), и даже указывают на его могилу в Старой Ладоге.
Однако, киевская хроника Нестора утверждает иное (явно ошибочно или сознательно искажая), что Олег умер 912 году «от укуса змеи».
Необходимо учитывать, что Нестор писал это в Киеве во время чрезвычайно сильного неудовольствия политикой князя (что стоит только соляной бунт в Киеве в 1113 году). Разве мог он публично поведать, что князя можно было вот так просто отстранить из-за его некомпетентности? Ведь это мог неправильно истолковать заказчик летописи, он же князь Мстислав, правивший тогда в Киеве и при этом ранее неоднократно изгоняемый из Новгорода.
Перечитайте «Песнь о Вещем Олеге» Александра Сергеевича Пушкина. Он тоже интересовался историей и был немного знаком с новгородскими хрониками, но всё же оставил такие заключительные строки:
Ковши круговые, запенясь, шипят
На тризне86 плачевной Олега;
Князь Игорь и Ольга на холме сидят;
Дружина пирует у брега;
Бойцы поминают минувшие дни



