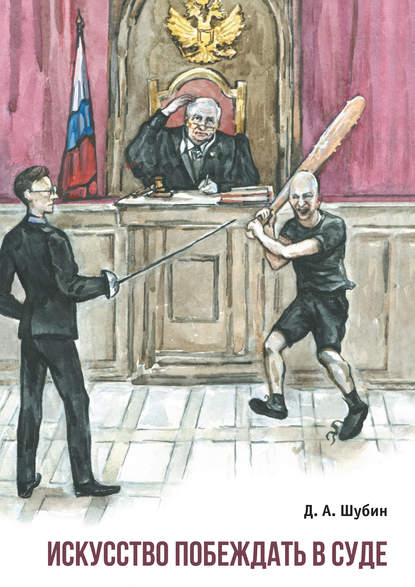 Полная версия
Полная версияИскусство побеждать в суде. Применение теории военного искусства адвокатом при ведении дела в суде
Никитченко с недоумением, подняв очки на лоб, наблюдал за калекой.
После краткой речи Ш., взывавшего к гуманности судей, и пятиминутного совещания Спецколлегия огласила определение: наказание Зайцеву было заменено на условное. Со слезами благодарности на глазах Зайцев выполз тем же способом в коридор, где тепло распрощался со своим адвокатом, и тот ушел. Это было оплошностью с его стороны: Зайцев зашел в туалет в конце коридора, где на радостях и оставил свои костыли.
Вечером они были обнаружены там уборщицей, и начальство стало выяснять, кто и почему их мог там оставить. Без труда добрались до Никитченко, и картина стала ясной.
Никитченко был взбешен. Но исправлять что-либо было уже поздно. Ограничились тем, что о не вполне этичном поведении адвоката Ш. сообщили в Президиум адвокатской коллегии для принятия мер. Там хохотали. Ш. с возмущением отвергал свою причастность к обману суда, но ему на всякий случай объявили выговор, уж не помню с какой формулировкой, о чем и уведомили Верховный Суд.[195]
Глава VI
Влияние личности судьи, его (её) судейской философии на осуществление правосудия
Прежде чем говорить о российском правосудии и судьях я для того, чтобы было интересней, чтобы было что, с кем и с чем сравнивать приведу несколько цитат из пропагандистской советской книги времен Холодной войны, в которой автор в далеком 1950 году высказался по поводу американского правосудия. И хотя это махровая пропаганда, да и речь в ней идет о пятидесятых годах прошлого столетия, а не о современности, цитаты довольно любопытны. Кроме того, нельзя забывать о том, что отдельные недостатки в судебной системе были не только в СССР, а теперь и в Российской Федерации, как полагают некоторые враждебные иностранные голоса, но и в развитых западных странах. Идеального правосудия нет нигде в мире.
Итак, ряд цитат из главы «Американское «правосудие» книги Владислава Минаева «Американское гестапо», изданной в 1950 году тиражом в 50 000 экземпляров. А какой стиль!
«Пожалуй, ничто в государственном механизме Соединенных Штатов не представляет собой столь циничной и лицемерной пародии на демократию, как судебная система… Правящие круги США достигли максимального совершенства в использовании судебной машины для защиты интересов капитала… Известный публицист Колиер метко подчеркнул одну весьма характерную особенность, свойственную судебной практике в США. «Общее беззаконие и презрение к соблюдению правовых норм, – писал он, – идет в Америке под разнообразнейшим цветисто-бессмысленным набором слов, из коих для примера можно привести фразу о «великом вскипевшем сердце Америки»[196].
«Принцип назначения судей обеспечивает правящим кругам полную возможность укомплектования судебного персонала «вполне благонадежными» кадрами. Хотя в некоторых штатах США и существует порядок избираемости, а не назначения местных судей, но техника выборов там настолько «отработана», что она целиком гарантирует выдвижение и «выборы» на судейские должности «подходящих людей»[197].
«В заключение предоставим слово известному чикагскому юристу Митчелу Досону, который в свое время следующим образом квалифицировал юридический уровень американских судей: «Вследствие недостатка опыта, образования или интереса к своей работе, эти судьи не в силах оценить значения запутанных материалов, с которыми приходится иметь дело современному законодательству. Они не в состоянии разобраться в законах и в том, как их применять. Одни ленивы, другие преступны, третьи являются орудиями политических партий, а многие просто невежественны!» «Короче говоря, – пользуясь определением Пет-тигру, – гнусная, простая и неприглядная истина состоит в том, что судьи Соединенных Штатов являются худшими врагами правосудия». Так красочно характеризуют своих судей сами американцы»[198].
«Лучшие законы не помогут, если люди никуда не годятся» (Вильгельм Швёбель, немецкий ученый и публицист)[199].
«Вся деятельность судебной системы США характеризуется сплошным юридическим крючкотворством… Так называемое «общее право» обозначает такого рода судебную практику, когда любое дело решается не на основании закона, а на основании судебных прецедентов. Не связанный никакими твердыми правовыми нормами, суд располагает благодаря применению «общего права» возможностью принимать то решение, которое в данном случае отвечает интересам господствующих классов».[200]
Вот такой взгляд на американское правосудие попытался донести в прошлом веке до советских читателей автор вышеуказанной книги, утверждая, что «государственные деятели Соединенных Штатов – это величайшие мастера социальной демагогии», которые лицемерно болтают о «правах человека», «заокеанской демократии», будто институты этой страны представляют собой верх демократического совершенства, а на самом деле вся суть американской действительности: жестокий произвол господствующего класса капиталистов.
«А судьи кто?» (Александр Сергеевич Грибоедов, русский дипломат, поэт, драматург)[201].
Социологический портрет российских судей
Судей-женщин в России намного больше, чем мужчин. 70 % и больше – это судьи-женщины и только 30 % и меньше – это судьи-мужчины. Достаточно посмотреть списки судей нижестоящих инстанций по судам общей юрисдикции и арбитражным судам. Можно даже сказать, что, что в России – женское правосудие. Однако в вышестоящих судебных инстанциях мужчин значительно больше. Исходя из этого, можно сделать вывод: основная тяжесть работы судьей легла в России на женские плечи. Мужчины сохраняют контроль над судебной практикой в высших инстанциях. Принятие важнейших для интересов государства судебных актов осуществляется, как правило, судьями-мужчинами или большинством судей-мужчин в коллегиальных судебных органах. В Конституционном Суде РФ, например, сейчас три судьи-женщины. В составе Президиума Верховного Суда РФ сейчас только одна судья-женщина. Такая вот подстраховка со стороны государственной власти.
«После счастья повелевать людьми самая высшая честь – это судить их» (Пьер де Бомарше, французский драматург)[202].
В 2011 году Институт проблем правоприменения (ИПП) Европейского университета в Санкт-Петербурге выполнил исследование «Российские судьи как профессиональная группа: социологическое исследование»[203]. Вот некоторые данные из этого исследования.
• «Среди судей преобладают женщины, в выборке оказалось 66 % женщин и 33,3 % мужчин. В судейском сообществе значительное место занимают судьи, пришедшие в профессию в постсоветское время, особенно после 2002 года (таких 57,4 %). Средний возраст судей – сорок три года».
• «Основным источником пополнения судейских кадров является аппарат судов (и судебный департамент) – до 29 % судей имели такой опыт работы. Среди этих судей преобладают женщины, занимающие должность судьи в достаточно молодом возрасте (более половины из них вступили в должность до тридцати лет). Вторым по значимости является опыт работы в прокуратуре (16,7 %), а также в правоохранительных органах (16 %). Оттуда приходят преимущественно мужчины более старшего возраста. Значительное количество судей ранее имело опыт работы в юридических службах государственных организаций. Относительно мало судей с адвокатским опытом работы».
• «Ценностным ядром судейского корпуса является триада «законность – защита прав – справедливость», причем «законность» занимает центральное место, именно через призму этого понятия воспринимаются и «права», и «справедливость». В судейском корпусе можно выделить две субкультуры, для которых характерно разное виденье профессиональных норм и разное представление об образе идеального судьи. Первая субкультура в большей степени ориентирована на аппаратные нормы (дисциплину, внимательность, аккуратность) и на строгое следование букве закона. В ней преобладают женщины достаточно молодого возраста, которые имеют опыт работы в аппарате судов. Представители этой субкультуры больше загружены, более зависимы от мнения коллег и позиции председателя суда или вышестоящих судов. Во второй субкультуре больше ценится независимость, бескорыстность и справедливость как нормы профессии. При принятии решений представители этой субкультуры в большей степени полагаются на собственное усмотрение. В ней больше мужчин более старшего возраста, имевших опыт работы в прокуратуре и правоохранительных органах».
• «Председатели судов существенно отличаются от судейского корпуса в целом как по социально-демографическим характеристикам, так и по нормам (профессиональной культуре). Среди них больше мужчин (48,6 % против 33,3 % в остальном судейском корпусе), значительно выше доля судей, вступивших в должность в советское время (43 % по сравнению с 4,6 % в остальном судейском корпусе), более высокая доля тех, у кого был предшествующий опыт работы в прокуратуре (27,3 % против 16,4 % в остальном судейском корпусе). Для их профессиональной культуры характерен более явный акцент на открытости и справедливости, а не на ответственности и внимательности».
• «Средний уровень нагрузки у судей, попавших в выборку, составляет тридцать дел в неделю. При этом половина судей рассматривает меньше двадцати трех дел и материалов в неделю. Наиболее распространена ситуация, в которой судья рассматривает от десяти до двадцати дел в неделю (25,9 %), а также ситуации с нагрузкой менее десяти дел в неделю (22,1 %) и двадцати одного-тридцати дел в неделю (20,7 %). Хотя четверть судей рассматривает в неделю от десяти до двадцати дел, у достаточно большого количества судей (12,4 %) стандартная еженедельная нагрузка превышает пятьдесят дел и материалов в неделю, что означает, что судья должен выносить решения по десяти делам или материалам в рабочий день. Это значит, что – при восьмичасовом рабочем дне – судья тратит сорок восемь минут на одно дело».
• «В целом судьи, как профессиональная группа, обладают большой степенью единства, и, несмотря на присутствие субкультур с характерными половозрастными и карьерными особенностями, эта группа стабильно себя воспроизводит в последние два десятилетия. Главным источником изменений в судейском корпусе в настоящее время являются сравнительно молодые сотрудницы аппарата судов, которые привносят в профессию нормы бюрократического свойства, связанные более с исполнительностью, дисциплиной и следованием букве закона, нежели с независимостью и справедливостью».
В своей статье Анастасия Нарышкина[204] обращает внимание на следующие факты из указанного исследования:
• «Большинство судей (58,1 %) имели обоих родителей без высшего образования, 22 % – с высшим, и 41,2 % судей выросли в семьях, где один из родителей закончил вуз. Любопытно, что юридических династий в этой профессиональной группе очень мало. Только 5,3 % судей – юристы во втором-третьем поколении».
• «Наши судьи получили свое образование либо в университетах (48,6 %), либо в юридических вузах (45,3 %), и 3,4 % закончили юридический факультет отраслевого вуза, обычно экономического. Только 43,9 % судей учились на дневном отделении. Чуть ли не половина судей – 43,9 % – учились заочно, 10,7 % – на вечернем. Исследователи подчеркивают, что это не очень типично для профессиональных групп, требующих высокой квалификации и обладающих высоким статусом и доходом. Обыкновенно, пишут они, в таких группах бывает гораздо больше людей, учившихся на дневном».
• «Исследователи отмечают, что судьи – довольно молодая профессиональная группа, ее ядро (52,7 %) – это люди от 36 до 50 лет. Разумеется, бывают судьи старше или моложе: самому молодому судье в выборке ИПП было 28 лет, самому пожилому – 69. Более 65 % судей из выборки были назначены на должность еще до того, как они достигли 35 лет, и 36,5 % – до тридцати».
• «Председатели судов старше, чем среднестатистический судья: 43 % председателей судов вступили в должность в советское время, тогда как среди «просто судей» таких только 4,6 %. Значительная часть председателей судов – бывшие работники прокуратуры: таких среди них 27,3 % против 16,7 % среди «рядовых» судей».
• «Если говорить обо всем судейском корпусе, то 29 % опрошенных пришли в профессию из аппарата судов, 16,7 % – из прокуратуры, еще 16 % – из правоохранительных органов. Бывших адвокатов среди судей мало. Интересно, что судьи-мужчины чаще всего – выходцы из прокуратуры или из «органов», а женщины – из аппарата суда».
• «В среднем судья рассматривает 30 дел в неделю. Но это в среднем: есть те, на кого приходится 10–20 дел, а есть и те, у кого их больше 50. Это означает, что каждый день судья выносит решения по десяти делам: 48 минут на одно дело при восьмичасовом рабочем дне. Это слишком мало. Ссылаясь на нормативы судебной нагрузки, разработанные Минтруда совместно с Минюстом в 1996 году, исследователи отмечают, что в среднем на рассмотрение районным судьей одного уголовного дела с одним обвиняемым (если обвиняемых больше, то и времени по нормативу должно быть больше) отводится 14 часов (!), а одного гражданского дела – 7 часов 40 минут. При таком раскладе судья должен рассматривать в неделю только 2,8 уголовных или пять гражданских дел. Но это невозможно, и половина судей чуть ли не каждый день работает сверхурочно, еще треть – несколько раз в неделю. Многим приходится брать работу на дом. Уменьшить количество дел, которые он рассматривает, судья не может, поэтому он, говорят исследователи, находится в положении, когда, только снижая качество работы по отдельному делу или работая сверхурочно, можно соблюдать установленные сроки».
• «На вопрос, в чем состоит главная миссия судьи (варианты ответов были предложены в анкете, можно было дать несколько ответов), большинство респондентов – 77,6 % – ответили, что это обеспечение законности. Права граждан и справедливость судьи тоже считают важными, но не столь: защиту прав граждан в качестве главной миссии судьи указали 50,5 % респондентов, обеспечение справедливости – 36,5 %».
«Кадры решают все» (Иосиф Виссарионович Сталин, советский политический деятель)[205].
На первый взгляд, борьба адвокатов в судебном процессе происходит между собой и никак не связана с личностью судьи, с его судейской философией. Однако это не так.
Во-первых, в некоторых случаях, как бы этого ни хотелось избежать, адвокат вынужден возражать и даже спорить с судьей. Например, по вопросам соблюдения процессуальных норм права, приобщения доказательств или исключению из дела доказательств, добытых незаконным путем, о необходимости назначения экспертизы, вызова в суд свидетелей и др. Таким образом, адвокат все-таки ведет борьбу за отстаивание прав и законных интересов клиента, в том числе и с судьей.
Во-вторых, судья не только лицо, ведущее процесс, но и лицо, в некоторых случаях активно вмешивающееся в борьбу сторон спора, не пассивный арбитр. Более того, все, что делает адвокат в судебном процессе, делается с целью воздействовать на судью, убедить его отдать победу ему, а не противнику. Таким образом, речь идет в том числе и о борьбе за привлечение адвокатом судьи на свою сторону.
Судьи независимы и подчиняются только Конституции РФ и федеральному закону (ч. 1 ст. 120 Конституции РФ). Судопроизводство осуществляется на основе принципов правосудия.
При принятии решения суд оценивает доказательства и доводы, приведенные лицами, участвующими в деле, в обоснование своих требований и возражений; определяет, какие обстоятельства, имеющие значение для дела, установлены и какие обстоятельства не установлены, какие законы и иные нормативные правовые акты следует применить по данному делу; устанавливает права и обязанности лиц, участвующих в деле; решает, подлежат ли удовлетворению или не подлежат заявленные требования.
Принимаемые судами судебные акты должны быть законными, обоснованными и мотивированными.
Итак, главное лицо при осуществлении правосудия – это судья (судьи) и участвующие в некоторых случаях граждане (арбитражные заседатели, присяжные заседатели). Именно от них зависит, чем закончится судебное дело.
«Не показывайте мне кодекс – покажите мне судью» (Рой Маркус Кон, американский политик)[206].
У каждого судьи есть своя судейская философия, свой опыт, подход к рассмотрению дел, что позволяет говорить о профессионализме судьи.
Судейская философия – это мировоззрение судьи, его правосознание, его отношение к природе судейской деятельности, принципы и подходы, которыми руководствуется судья при осуществлении правосудия, вынесении судебных актов.
«Профессионализм судьи – это совокупность знаний, интеллекта, культуры, нравственно-психологических качеств, которые ему необходимы для полноценного осуществления должностных обязанностей»[207].
«Судья-профессионал – это человек, обладающий твердым профессиональным правосознанием, глубоким знанием законов и неуклонно следующий им, владеющий судебной практикой, умеющий правильно разобраться в конкретной жизненной ситуации, усвоивший требования судебной этики, культурный, обладающий нравственными качествами, с безупречной репутацией».[208]
Судья, рассматривая дело, оценивает доказательства и доводы, приведенные лицами, участвующими в деле по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся доказательств.
Именно поэтому так важна личность судьи, его мировоззрение, а также то, как он и в каких условиях выполняет свою нелегкую работу.
В связи с этим нельзя не сказать о нескольких главных объективных негативных факторах, которые существенно влияют на работу российских судей.
Судьям часто приходится работать с некачественными законами.
В России происходят постоянные изменения в законах, которые перестали быть стабильными источниками права. Многие законы «сырые», тщательно не прорабатываются перед принятием (не соблюдаются правила юридической техники при подготовке законов), зачастую сложны для понимания даже правоведов. Некоторые нормы законов не соответствуют конституционным принципам, общим международным принципам права. Это связано с поспешным принятием законодателем многочисленных законов.
«Законы должны быть такими, чтобы содержащаяся в них справедливость была понятна каждому нормальному гражданину» (Вильгельм Швёбель, немецкий ученый и публицист)[209].
В связи с этим не только судье, но и всем правоприменителям зачастую довольно сложно бывает установить, что имел в виду законодатель, не говоря уже о явно дефектных нормах права, пробелах в праве. Эти трудности в некоторых «тяжелых» случаях могут быть исправлены только Конституционным Судом РФ (признанием отдельных норм законов неконституционными или выявлением конституционно-правового смысла неправильно применяемой нижестоящими судами нормы законов, так называемое конституционное истолкование нормы права).
Многим судьям, особенно в нижестоящих инстанциях, приходится работать с чрезмерной нагрузкой.
Когда судье приходится рассматривать в день не одно – два дела, а десятки (как это зачастую происходит в районных судах общей юрисдикции и в первой инстанции арбитражных судов), то у судьи нет физической возможности спокойно, не торопясь изучить дело, поразмышлять о том, как следует его разрешить, внимательно выслушать стороны и оценить доказательства по делу. Конвейер из судебных дел негативно влияет на качество рассмотрения дел.
По мнению автора, для повышения качества правосудия в стране необходимо, во-первых, увеличить в разы количество судей; во-вторых, существенно повысить статус помощников судей, с соответствующим повышением заработной платы;
в-третьих, повысить заработную плату всем остальным работникам судов (специалистам и др.), работа которых непосредственно связана с количеством рассматриваемых в суде дел.
И нет смысла высчитывать нагрузку на каждого отдельного судью, так как это все весьма оценочно и все равно будет несправедливо. Должен быть жесткий лимит на количество дел. Для качественного правосудия пусть лучше некоторые судьи будут загружены не в полную силу, зато никто из судей не будет перегружен.
Негативный опыт взаимоотношений с властью предыдущих поколений нашей страны
Это привело к отсутствию (далее я напишу осторожно. – Автор) у некоторых граждан, в том числе у некоторых судей, нашей страны подлинной свободы и независимости при принятии решений, внедрению психологии тотального двоемыслия, двуличия, двойных стандартов жизни и наличию внутреннего цензора. Это – опасения человека не вписаться в рамки «системы», сделать что-то, что не понравится системе и приведет к неблагоприятным последствиям. По сути, это выработанный годами жизни рефлекс: внутреннее душевное рабство, малодушие, конформизм[210].
«Свобода состоит в том, чтобы зависеть только от законов» (Вольтер, французский философ)[211].
Однако не секрет, что жизнь, например, при сталинском режиме, «в те времена укромные, теперь – почти былинные, когда срока огромные брели в этапы длинные»,[212] приводила к тому, что люди опасались противоречить и поступать вразрез с идеологией, господствовавшей в стране, опасались вызвать неудовольствие начальства, властей. На этот счет есть японская пословица: «Гвоздь с торчащей шляпкой надо забить!» Она означает, что всякий, кто «высунется», «огорчит» власть имущих, хоть чем-то будет отличаться от других в коллективе, проявит самостоятельность и независимость мышления в обществе – пострадает. При этом не важно, кто и на каком посту работает. Системе противостоять нельзя! В настоящее время никого не расстреляют и не сошлют в лагеря за инакомыслие и независимость взглядов, собственное мнение. А вот работы, карьеры, премии или иных материальных благ на государственной службе или даже в коммерции можно запросто лишиться.
Вообще жизнь в обществе не проста, и, если быть объективным, все мы от кого-нибудь или от чего-нибудь всегда зависим. Родители любят послушных детей, а власть любит покорных, служащих ей граждан. И это не только в нашей стране, это во всем мире. Вспомним, как в фильме «Три мушкетера»[213] кардинал Ришелье уговаривал д’Артаньяна поступить к себе на службу.
Кардинал Ришелье:
– Я предлагаю вам игру на моей стороне. Это большие деньги и большое доверие, юноша.
Д’Артаньян:
– Я не могу допустить, чтобы мои поступки имели вид, будто я продался вам.
Кардинал Ришелье:
– Ну и что, что продался? Вы затем и приехали в Париж, чтобы подороже продать свою шпагу, верную руку, изворотливый ум. Вы мечтали о военной карьере? Ваша мечта сбудется. Вы мечтали о деньгах? Положении? Вы получите и то, и другое»[214].
Внутренний цензор – это, когда продекларирована свобода и независимость, а на деле их нет, эти права добровольно не используются, не реализуются человеком. Человек думает и даже свободно говорит одно, а делает, все-таки по-другому, «как надо». Такая вот психология, такое вот запрограммированное аномальное поведение, такая вот зависимость от сформировавшегося рефлекса, такое понимание и ощущение личной безопасности и комфорта жизни. Соблюдать «правила» спокойной жизни, плыть по течению, быть таким же как все, понимать бесполезность любой борьбы. Отсутствие собственного мнения, приспособленчество, нежелание менять свои сформировавшиеся оценки и страх индивидуальности. Такая вот установка по жизни.
«Нет рабства позорнее, чем рабство добровольное» (Сенека, древнеримский философ-стоик)[215].
В качестве примера можно привести извлечение из речи адвоката С. Л. Арии на заседании Преображенского районного суда г. Москвы от 21.04.2009 г. по делу об условно-досрочном освобождении Бахминой С. П.:
«Дело Бахминой в целом и вопрос о ее условно-досрочном освобождении в частности приобрели столь широкую известность, что вошли уже в число факторов, влияющих на репутацию российского правосудия, на доверие к нему. В ряду странностей этого дела находится и удивительная ситуация, сложившаяся с вопросом об освобождении Бах-миной: уже год идет об этом спор не обвинительной власти с защитой, а спор ВНУТРИ государственной системы, одних государственных органов с другими. При этом администрация исправительной колонии (знающая Бахмину лучше остальных участников спора), Верховный суд Республики Мордовия и даже прокурор, дававший заключение на первом рассмотрении дела, выступили за освобождение Бах-миной, исходя из мотивов прозрачных и соответствующих закону, а местный Зубово-Полянский суд – против, по мотивам, в лоб противоречащим закону (и совести, добавим мы). Нет нужды в догадках, что побуждало местных судей к такой позиции: перестраховка, угодливость или природные свойства. Для нас важно другое: этот спор внутри государственной службы свидетельствует о наличии там, внутри, серьезных разногласий и сомнений в надобности дальнейшего содержания Бахминой в местах лишения свободы. Это важно. Поскольку сомнения такого рода в цивилизованном правосудии разрешаются, известно в чью пользу. И в России такое решение в пользу обвиняемого предписано в статье 49 Конституции РФ. Защита с тревогой и надеждой будет ждать, на чью сторону Вы станете в этом споре, где закон и совесть соревнуются с ложно понятым государственным интересом».[216] Преображенский районный суд г. Москвы постановил условно-досрочно освободить Бахмину С. П.



