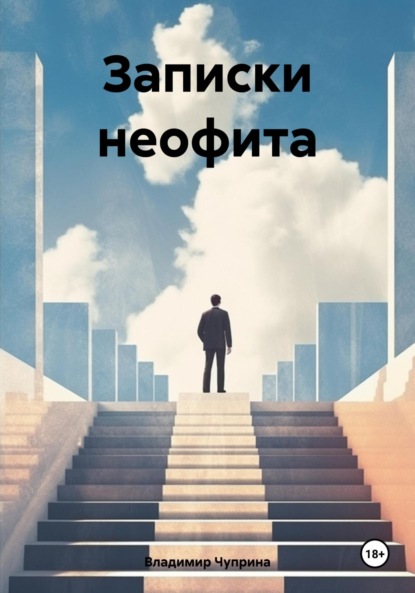
Полная версия:
Записки неофита
Митрополит Геронтий в Успенском соборе ежедневно служил перед чудотворным ликом Владимирской иконы Божьей Матери. Архипастырь испрашивал для дружинников укрепления в предстоящем сражении и победы. Ни один русский витязь не ушел на Угру не благословленным, не принесшим покаяния или без причастия.
Вместе с воинами на сечу шли полковые священники, неся хоругви с образом Спаса. Над дружинами не смолкало молебное обращение к Заступнице воинства христианского: "Предстательство страшное и непостыдное, не презри, Благая, молитв наших, всепетая Богородица, утверди православных жительство, спаси люди твоя и подаждь им с небес победу…"
Казалось, что в эти тревожные осенние дни вся земля русская стенает к святому образу Матери в едином молитвенном порыве. Так и было. Не осталось ни одного города, ни одной деревни, где из смущенного сердца не вырвалось к небу: "Богородице, спаси нас… Ты бо еси крепость и утверждение людем твоим…"
Митрополит Геронтий потерял сон. Он устал. Архипастырь лежал с открытыми глазами, ворочался с боку на бок и не мог уснуть, чтобы освежить силы. Мысли в голове теснились, словно боролись друг с другом. Его сердце страдало: что-то там сейчас происходит, на берегах Угры? Архиерей пытался представить. От волнения картина была смутной и непонятной. Но тревожной.
Геронтий сел, долго растирал лоб и щеки, оглаживал бороду, ворочал шеей. Потом глубоко вздохнул и перекрестился три раза. Встал и кликнул монаха-помощника, спавшего в притворе неподалеку:
– Облачаться!
Митрополит вышел во двор кремля. Холодная октябрьская ночь встретила полусонного священника ледяным объятием. Он поежился и заспешил в недавно отстроенный Успенский собор.
В храме было тихо и пусто. Над аналоем горело паникадило, тускло освещая святые лики и раку с мощами святителя Петра. Подле Владимирской иконы тлела лампада и мерцали, оплывая, толстые свечи.
Священник взял в руки молитвослов, тисненный золотом и опустился перед образом Богоматери на колени. Он захотел еще раз прочесть молебный канон ко Пресвятой Богородице, "поемый во всякой скорби душевной и обстоянии". Владыко уже произнес тропарь, псалом и первую песнь. И вдруг поймал себя на том, что открывает смысл молитв только теперь, мучимый переживаниями, в страхе за паству. Митрополиту показалось, что он правильно произносит канон впервые в жизни. Здесь, в тиши ночи, в одиночестве, каждое слово открывало ему заново великий и вечный смысл, сокрытый в молитве для души грешной, пока та не научится смирению. Слезы покаяния подступили к сердцу. Не скрывая волнения, дрожащим голосом архиерей просил за всех православных христиан земли русской, за их скорбящие души, за растерянные перед лицом беды верные Господу сердца:
– Предстательство христиан непостыдное, ходатайство ко Творцу непреложное, не презри грешных молений гласы, но предвори, яко Благая, на помощь нас, верно зовущих Ти… – голос священника задрожал и оборвался. Геронтий смолк, его взор заволокла слеза.
Вдруг сквозь слезу он узрел чудо, потрясшее его сильнее, чем вновьобретенная молитва канона, чудо, заставившее разрыдаться от радости – на раке святителя Петра сама собой воспламенилась свеча. Она погорела и тихо погасла.
Геронтий рыдал и не мог остановиться. А его сердце ликовало. Оно зрело чудо и понимало его смысл – Богородица слышит!
Архипастырь простоял на коленях до утра.
* * *
Кочевники упорствовали с присущей им яростью и смелостью. Восемь дней подряд они штурмовали переправу на Угре, пытаясь одолеть преграду из копий, стрел, дыма и огня на мелководной излучине. И лишь на девятый попытки прекратились. Орда ушла с отмели и прибрежного холма, и укрепилась в городище Кременец верстах в двух от берега. Наступило затишье. Кочевники не предпринимали больше никаких действий.
Все эти дни Батачулун провалялся в обозе. Он болел. Его мучили раны. Предплечие оказалось раздробленным и пальцы руки не слушались. Воин не чувствовал их, словно они были дереваянные. При малейшей попытке повернуться воспламенялся разодранный до костей бок. А на опухшую голень невозможно было ступить. Аравт едва передвигался, хватаясь уцелевшей рукой за палку, изо всех сил подпирая искалеченную ногу.
По ночам становилось все холодней. Дул студеный северный ветер, принося снег и ледяной дождь.
Батачулун лежал в промерзающей кибитке, в одиночестве, завернувшись для тепла в овечьи шкуры, укрывшись ими с головой, и проклинал тот день, когда собрался в набег. Он злился на хана Ахмата, на темника Аранбатыра, клял их за бездарность в военном деле.
Аравт уже не хотел обещанного богатства, ни рабов, ни синеглазой наложницы. Все его мысли летели в родовое стойбище, куда так хотелось вернуться живым. Удастся ли? Сомнение угрожало воину сейчас больше, чем любой соперник в бою и заставляло душу страдать.
Каждый день обоз полнился раненными и покалеченными хорчинами, а вожделенной победы над "урусами"все не было. Победоносная армия монголов не привыкла к большим потерям и бездействию. Кочевники ходили на москвитян не умирать, в набирать большой добычи для сытой жизни. Они мечтали вернуться и праздновать, похваляясь перед сородичами трофеями и доблестью. Но очередной великий поход не сулил им пока ничего.
– Трусливый и глупый, как овца! – негодовал аравт, обрушиваясь в мыслях на хана. Он сожалел, что не откочевал прошлым летом в Приаралье, к нойону Берке, который благоволил родственному племени тангутов и ценил воинов за их смелость не так, как Ахмат. У Берке богатые пастбища, там можно расплодить скот, сокрушался хорчин. Если бы ни сотник-джагун Чаган. Это он уговорил Батачулуна остаться, назначив аравтом. Это он обещал рабов и дорогие украшения.
– Мы не какие-нибудь дикие таммачи из южно-сибирскиз племен, – уговаривал джагун, – мы из славного племени тангут. Кому как ни нам быть после похода в славе и богатстве?
Мысли аравта прыгали от отчаяния. Этот лживый джагун… эта синеглазая наложница его мурзы… если бы она не посмотрела так!…
Вскоре причина бездействия хана стала понятна всем воинам. Ахмат решил дождаться ледостава, чтобы перейти реку без потерь и обрушиться на "урусов"всей мощью своего огромного войска. На открытом пространстве москвитянам уж точно не избежать живой петли из людей и лошадей, которая захлестнет их, как волосяной аркан шею строптивого скакауна, и измотает для сокрушительного удара кешиктенов. Не было еще силы, способной противостоять кулумге.
В начале ноября водная гладь Угры покрылась льдом. У кромки замерзшей воды вновь замелькали монгольские разъезды, проверяя его крепость. С противоположного берега в хорчинов пускали стрелы и кидали копья, грозившие им москвитяне. А порой отгоняли "поганых"выстрелами из единорогов и пищалей. Монголы не оставались в долгу. Выкрикивая оскорбления, они обещали "урусам"скорую расправу. Перебранки и перепалки вспыхивали все чаще то в одном месте, то в другом.
Морозы крепчали, и вылазки ордынцев участились. Напряжение росло. Стало ясно, что крупного сражения не избежать.
Прошел месяц с первой, неудачной попытки кочевников переправиться на русский берег, когда Батачулуна тяжело ранило. Он все еще находился в обозе, хотя раны затянулись. Аравт передвигался уже без палки, но хромота осталась. Однако больше всего воина беспокоила пострадавшая рука: пальцы скрючило и лучник по-прежнему не чувствовал их. Он мял кисть, пытаясь растереть и согнуть ее, но пальцы не сжимались в кулак. Больная рука висела, цепляясь за раненный бок, и стала заметно тоньше здоровой.
Батачулун выбрался из кибитки и приказал пригнать и седлать своего коня. Богатырский камень долго стоял возле лошади, поглаживая ее морду, о чем-то разговаривал, словно упрашивая, и лишь после этого попытался взобраться в седло. Но не смог. Хромая нога не сгибалась так, чтобы поставить ее в стремя. Воин повторял попытку с упорством снова и снова, пока лошадь, перебирая копытами, не стала пугливо шарахаться в сторону от незадачливого всадника. Батачулун обнял ее за шею, прильнул головой и стал успокаивать животное. Его плечи вздрагивали. Пришлось забираться в седло с посторонней помощью. Аравт выполнял последний боевой приказ хана – всем раненным, кто может держаться в седле, вместе с свойском выдвинуться к реке. Замысел хана был прост. Он хотел устрашить противника многочисленностью орды. Излюбленный прием кочевникова со времен Батыя.
Батачулун погладил шею коня и тронул поводья. Лошадь, еще помнившая привычки хозяина, с места пошла иноходью. Ветер запел в ушах аравта. Он обрадовался его сладкой мелодии. Это была песня родных степей, которую воин не слышал целый месяц. Он закрыл глаза и представил запахи ковыля и такыра, клекот беркута и шум его крыльев. Беркут с силой оттолкнулся от его руки, теперь безжизненной, и взмыл в бескрайнее небо над головой. А он, Батачулн, счастливый беркутчи-охотник, скачет следом за птицей, высматривающей лисицу. Новый порыв ветра принес из памяти запах свежего вареного мяса и горячей шурпы. Батачулун летит к родному стойбищу, где готовится бешбармак, летит во весь опор, удивляя своей прытью девушек-тангуток. Вот он лихо соскочил с коня и припал жадными губами к пиале с пьянящим кумысом, что белеет в руках молодой красавицы. Ветер поет и поет сладкую песню воспоминаний.
–А -а – а – яй – яй – яй – ай! – длинно и протяжно запел воин во весь голос, подражая шуму ветра, клекоту беркута, шелесту ковыля. Запел от радостных воспоминаний, принесенных ветром забытых ощущений полноты жизни и свободы.
Кто-то из нукеров окликнул его, прервав сладкое забытье. Аравт открыл глаза и видение пропало. Впереди замаячил неприветливый холодный берег, где толпились и галдели тысячи всадников. Батачулун здоровой рукой натянул поводья и лошадь перешла на шаг. Опустив голову, она побрела, на ходу хватая из-под ног чахлые стебли объеденной осенней травы.
* * *
Великий князь приготовился дать монголам сражение. Ночью русские полки скрытно подошли к Боровску, к выбранному заранее месту и строились в боевой порядок.
На Угре остался только сторожевой отряд боярина Давидовича, чтобы следить за передвижением ордынцев и высылать к великому князю вестовых.
Холодным сырым утром начала ноября полчища кочевников подошли к застывшей речке, намереваясь преодолеть ее сразу в четырех местах. Русские конники, стоявшие в схроне, во весь опор понеслись к воеводе. Федор Давидович тут же отправил посланников к великому князю.
Орда, скрытая туманной пеленой, разлившейся по всей речной долине, ждала сигнала к наступлению.
Ждали и русские. Рать у Боровска изготовилась, замерла и смолкла, словно задумавшись о чем-то. Незримо, в мыслях, взволнованные воины начинали биться с врагом. Они сходились, сдавливая пространство, разделявшее их, до той критической точки, где сближение взрывалось кровавым кипением страстей. Сходились обреченно, больше не властвуя над собственными жизнями. Обреченность порождала в живых душах леденящий страх смерти. Люди заглядывали в черный колодец вечности, куда им предстояло упасть, и в ужасе отшатывались. Но плотней прижимали щиты и крепче сжимали рукояти мечей, чувствуя плечи содружинников, твердо стоявших рядом. Всем миром легче преодолеть страх смерти, чтобы победить врага. Но где взять силы для победы над смертью? Православные воины знали где: у распятого Господа, принесшего себя в жертву, и воскресшего, и даровавшего "людием своим"бессмертие души.
Полковые священники в последний раз обхоили воинство, кропя святой водой, и крестили ратников иконой с ликом Богородицы.
Утро светлело. Над Угрой заклубилась, рассеиваясь, серая дымка. С восходом солнца она заискрилась от его лучей. Подул морозный ветер и погнал золотистую мглу тумана вдоль речной излучины, опоясывая пологий берег, на котором стояли ордынские полчища.
Ратники сторожевого отряда услышали на вражеском берегу, скрытом за искрящейся редеющей завесой тумана, шумные выкрики, топот и ржание коней. Орда тронулась. Русичи сталои разворачивать лошадей, чтобы уйти с берега и присоединиться к полкам у Боровска.
– Глядите! – крикнул кто-то из русских воинов, – Глядите!
Дружинники обернулись. Золотистый туман, гонимый ветром, почти рассеялся и открыл вражескую отмель. Но ордынцев на ней не было.
Обеспокоенный Федор Давидович разослал по берегу конные разъезды с приказом разыскать неприятеля. Он хотел понять, какую хитрость придумали кочевники и предупредить великого князя. Но соглядатаи вернулись ни с чем.
Тогда коломенские сторожа спустились к реке и, осторожно ступая на первый лед, перешли на вражеский берег. Они поднялись на холм, где повсюду еще дымились остатки костров и свежий конский навоз, но никого не нашли за бугром. Кочевники словно растворились.
К поискам подключился весь сторожевой отряд, разбившись на ватаги, предводимые старшими дружинниками. Только в полудню воевода получил известие о том, что орда уходит на юг.
Берега Угры стихли и опустели. Морозный день распогодился, солнце стало выглядывать из-за неприветливых туч. Чувствуя на душе благодать от неожиданного избавления от смерти, ратники не скрывали радости. Они крестились, славили Бога и, взирая на небо, повторяли: "Богородица с нами!…"
Вдруг воины, смотревшие в небо, ахнули от удивления; им показалось, что в разрыве облаков мелькнул ярким светом и погас лик Божьей Матери. Ратники закричали, толкая друг-друга и показывая на облака. Но видение растворилось также быстро, как и появилось. Только золотистое свечение пробивалось через толщу низко плывущих туч. А русские все стояли, запрокинув головы, обратив свои взоры к небесам.
О чудесах!
Творить чудеса – исключительная прерогатива Господа. Все знают об этом. Аксиома. Не правда ли? А вот и нет: есть еще одно создание способное творить чудеса. Это человек! Он, правда, не всегда, а то и никогда не знает об этом. Хотя слышал, что Бог сотворил его по образу и подобию своему. Это подобие заключается в способности к духовности и творению чудес. Да, да, именно так. В чем еще может заключаться подобие, если ни в этом?
Бог духовен, и его подобие должно быть духовным. Но как это, если я и в церковь не хожу, разве что раз в год на Пасху, куличи святить, и о чем в храме батюшка говорит на непонятном языке – неведомо разуму моему. Не переваривает мой ум старославянскую словесную пищу, напрямую все идет. Какие уж тут чудеса?
И в чем чудо вообще заключается? Прошу у Бога денег – нет чуда, прошу машину – мимо, прошу здоровья – опять в молоко.
Бог не хочет? Или не может? Или Его нет вообще?
Бог хочет! Бог может! Он есть! У вас в душе Его нет! Поэтому вы не чувствуете свое подобие Ему. Не чувствуете духовного контакта с Ним. Вот чуда и не происходит, без взаимопонимания с Ним. И никогда вы не получите чудесным образом того, что просите без следования духовным законам.
Чудо – это изменение, неожиданное, привычного состояния, или течения события. Это изменение часто кажется невероятным, потому, что мы не посвящены в его технологию. И я не посвящен. И вы. Никто. Знаю только одно наверняка: "чудеса", которые проистекают не из духовности, называются "фокусы".
Тогда как же нам, существам по "образу и подобию", произвести "чудо"? Какие чудеса проистекают из духовности? Как их совершить?
Вот вам первая технологическая инструкция: начните как можно чаще благодарить людей! Вы же понимаете, когда это нужно делать. Но почему-то молчите. Открывайте рот. Почаще. Очень быстро вы заметите за собой, что стали как-то добрее к людям. Что-то в вашем высокомерии чуть-чуть надломилось и заметно изменилось. Делайте, делайте дальше. Благодарите людей. Благодарность к людям – это духовная работа. Бросишь работу – не будет плода.
Погодя чуток вы обнаружите с удивлением, что и люди стали к вам добрее. А еще спустя какое-то время увидите и почувствуете, что атмосфера, в которой вы живете, атмосфера общения с себе подобными преображается, становится красивее. В ней уже звучит, как раскаты грома, необъяснимая радость от общения с людьми, которых вы искренне благодарите. Вот-вот и польется в этой атмосфере благодатный дождь – вы начнете творить добрые поступки и извинять людей. Запомните: это зашевелилась и проснулась в вашей душе любовь. Непередаваемое ощущение! Новая атмосфера общения с людьми родила озон для духовного дыхания!
Тот же самый мир вокруг. Те же краски. Те же люди. Все на своих местах, как и прежде. Но все поменялось. ЧУДО!!! Не правда ли? А началось с искренней благодарности к окружающим, с которыми пересекаешься каждый день тысячами невидимых нитей.
Инструкция номер два: начните помогать людям! Ничем вы так близко не расположите человека к себе, как искренней помощью ему. Но… только бескорыстной помощью. Корысть в помощи производит обратный эффект – человек будет стремиться отделаться от вас. И это естественно: не ставьте ближнего, которому решили помочь в позу должника, который обязан вам, не давайте ему это неприятное ощущение. Наш дух – свободен. Исходите, делая помощь, из свободы духа человека, которому помогаете. Помните об этом всегда и все у вас получится. Наилучшая форма помощи – безымянная, это когда человек не знает, кто ему помог. Такой поступок неизвестного благодетеля вызывает желание помолиться за него и запоминается на всю жизнь. Дорасти бы до такой духовной высоты! Желаю всем!
Если вы уловили ход моих мыслей, значит я старался не зря. Не буду дальше растекаться мыслью по древу. Не собирался читать нравоучения или философствовать. Просто порассуждал. Оформил в словесную ипостась свой личный опыт пребывания в церкви, свой поиск способов как улучшить себя. Можно не соглашаться со мной, можно спорить, даже обрушиться с критикой. Дело ваше. Как хотите. Все имеет право быть. Сколько на земле миллиардов людей, столько и мнений об одном и том же явлении в нашей жизни. А я просто желаю вам размышлять о Боге! И о себе!
Глава 10 . Последняя купель
– Идемте трапезнича-ать, Антон Николаевич! – настоятель позвал громким голосом. – Антон Николаеви-ич! Пропылесосите потом. – И, подождав, настойчиво повторил: – Идемте же! Надо кое-что обсудить.
Из дьяконских врат алтаря выглянул старичок лет семидесяти, выставив вперед жиденькую белую бородку.
– А што обсуждать? – склонившись над пылесосом, пробурчал он себе под нос и недовольный тем, что его оторвали от дел, хмыкнул. Алтарник догадался о чем пойдет речь. Приближалось Крещение Господне. И надо было рубить на реке иордань и крест. Подготовка к празднику для старого служителя храма Всех Святых заключалась каждый год в одном и том же: расчистить снег на речке, продолбить во льду купель, выпилить крест. Работа не из легких. Хорошо еще если лед не толстый, а зима не лютая морозами. Однако нынче снегу навалилио, ого-го! А декабрьские морозы сперссовали его твердый наст. Что под ним? Поди, ни меньше полуметра?
Так размышлял Антон Николаевич. Но не произнес ни слова вслух, а прикрыв резную дверь, послушно проследовал за настоятелем в трапезную.
На долгом веку алтарника это был уже четвертый иерей, окормлявший приход старинного села, растянувшегося по берегу речки Тихая на сколько глах хватало. Когда-то здесь бурлил районный центр. Но поселок утратил свое административное значение в эпоху перестройки, развалившей село. С тех пор жиэнь дремала на руинах заброшенных зданий не нужных больше предприятий и организаций. Молодежь разъехалась. В селе остались пенсионеры, их внуки-школьники, да те немногие, кто приспособился жить за счет хозяйства и несложного ремесла. Поселок заметно опустел. И в храм ходили всего десяток-полтора старушек. Одни и те же.
За двадцать лет жизни в церкви, которые прошли перед глазами Антона Николаевича храм так и не наполнился. Хотя покрестились в нем почти все жители. Иной раз целыми семьями. Но, приняв крещение, люди уже никогда не возвращались в лоно матери своей. Это обстоятельство сильно удручало настоятеля. Он переживал. Говорил о маловерии на проповедях с волнением. Но… храм пустовал, как сухая утроба.
Лишь праздник Крещения был исключением в жизни сельчан. На речке, после освящения воды, начиналось столпотворение. Сюда ехали и шли со всех улиц и домовладений. С флягами, бочками, баклажками и канистрами. За святой водой. А еще для купания. Набившись под целлофановый навес возле проруби-купели, мужики озорно галдели и смеялись.
– Чо, слабо?! – подзадоривали они друг-друга.
– Кому слабо? – отвечал задираемый. – Ща посмотрим!
Сбросив с себя все до трусов, мужики семенили по шаткому деревянному настилу к проруби и осторожно спускались по оструганным сосновым ступенькам в воду до колен или по пояс. Глубоко вдохнув и крякнув во всю мужицкую мощь, они погружались в ледяную купель, тут же выпрыгивали на поверхность и бежали под навес, где им сразу протягивали стакан водки.
Шум и веселье царили на речке. Нырнуть в святую воду приходили и мусульмане. Они стелили у проруби ковер, также погружались в воду и также бежали за водкой под навес, наперегонки с православными.
Настоятель пытался вразумить народ, говорил что купание в иордани – это священный ритуал, что погружаться нужно с молитвой, осенив себя крестным знамением. Что нужно понимать, для чего это делается. И что водка здесь совершенно неумествна. Но его никто не слушал и демонстрация молодецкой удали под водочку продолжалась весь день. Ну, а как вы хотели? Праздник же!
Праздники в селе любили. Они нарушали сонное течение жизни. Их ждали и отмечали, по привычке, все подряд: старые "советские"– от первомая до дня железнодорожников включительно, и вновь обретенные церковные, не мудрствуя над их смыслом и значением.
Итак, приближался очередной праздник Крещения Господня. Владельцы магазинов и ларьков спешно завозили дешевую водку, а настоятель обивал пороги администрации поселка, полицейского участка и религиозного комитета, чтобы выхлопотать разрешение на крестный ход от церкви до речки для молитвенного освящения воды. Хотя от храма до воды было не больше трехсот шагов, тем не менее батюшка Амвросий отмерял десятки километров пути, смиренно переходя из кабинета в кабинет, как мытарь или паломник, прежде чем ему разрешалось.
Наконец все устроилось. Оставалось последнее: расчистить на речке площадку от снега и выдолбить во льду крест и купель.
Когда в трапезной заговорили об этом, староста Феодора Ивановна, беззубая сгорбленная старушка начала шепеляво жаловаться:
– Нихто опять не хошет. Нихто не отосвался помочь.
– Надо было объявление дать, – посетовал иерей, оторвавшись от трапезы.
– Ой, батюшка, та ходила я. По всем махасинам расклеила. Два раса. Первый – оторфали, я – опять. И шаво?
Сидевшие за столом храмовые работники зашевелились, побросав ложки.
– Да никто опять не придет. Первый раз, что ли?
– Не нужна людям религия! – вздохнула сторожиха Сонюшка, единственная из присутствующих молодая женщина, лет сорока.
– Как не надо? – возразила храмовый повар высоким голосом. – Народу на проруби пруд пруди! Ныряют как… – и рассмеялась, – как караси во время нереста. Прости, Господи! – перекрестилась она.
– Под водочку, – съязвил кто-то.
– Ага, – подхватили сразу несколько голосов. – И на этом вся религия.
Люди загалдели. Лишь Антон Николаевич сидел молча. Он спокойно пил чай и казался задумчивым. Разговор его не занимал. Алтарник знал наизусть, что будет дальше. Двадцать лет из года в год одно и то же. Слово в слово: "никто не хочет помогать…", "а делать надо…"
Это самое "делать надо"адресовывалось ему. Караулило, как разбойник жертву, каждую зиму. Сейчас все наговорятся, выплеснут эмоции, а потом уставятся на него. А на кого еще? Единственный мужчина-прихожанин в церкви, не считая настоятеля.
– Антон Николаевич, – батюшка вывел алтарника из раздумий, – что делать будем?
– Снегу нынче… Трактор пойду искать, – прихлебывая чай из мяты, ответил алтарник, давая понять, что вопрос уже решен и он опять согласен быть главным ответственным за подготовку купели. – Вот думаю, с кем договориться.
На старика посмотрели с уважением. Послышались облегченные вздохи.
– Ну, вот и шлава Боху! Порешали, – подвела черту Феодора Ивановна и перекрестилась. – Шлава Боху!
– Словно камень с души… – поддержала ее сторожиха Сонюшка.
– Ну, куда ж я… Надо… – не отрываясь от чая, подтвердил свое согласие алтарник.
* * * * *
Канун Рождества – день, название которого дошло до нас непонятным словом "сочельник". "Сочва"или "сочня"называли в древней Руси потребляемую в этот день кашу не постном масле. Ее нельзя было принимать до первой звезды на небе, в память о Вифлеемской звезде, возвестившей волхвам о рождении Спасителя.
В сочельник с утра алтарник отправился в центр села к универмагу. Еще ни свет, ни заря, а мужики-выпивохи, "стрелки", как окрестили их сельчане, уже подтянулись к дверям продуктового отдела. Они поджидали кого-нибудь знакомого, чтобы в этот ранний час "стрельнуть на пузырь", кто сколько подаст, опохмелиться после вчерашнего загула, устроенного в честь приближающегося Крещения, и продолжить церковный праздник дальше.



