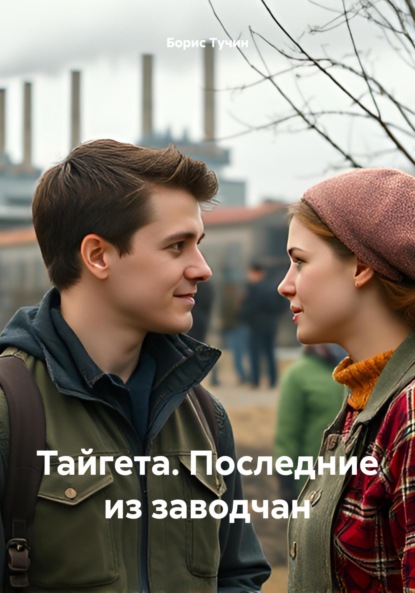
Полная версия:
Тайгета. Последние из заводчан
Путь далеко был виден. Луна, как выкаченное блюдо, сияла почти ослепительно, а кругом неё расстилалась тёмная, с драгоценной прожелтью, мраморность неба.
Из барачного городка вынырнула мужская фигура. Заметив едущих, неизвестный дёрнулся было обратно, да раздумал. Метнулся через дорогу и скрылся в лесу.
И пусть его, мало ли у кого какие дела в лесу поздней ночью.
Дознанье
Следователь, тощий, с изуродованным вражескими осколками лицом, крутил козьи ножки, набирая коричневыми пальцами злую махру из фронтового подарочного кисета. Крошки сыпались на шинель и на снег. Следователь никого не звал разделить с ним курево, поскольку вёл не дружескую беседу, а формальное дознанье. Стало быть, свидетель мог в одну минуту превратиться в обвиняемого, то есть в обвинённого, значит, во врага, – а как же с врагом делить курево?..
Следователь разговаривал резко, исключительно по делу. Неоднократно, в разной тональности, как бы невзначай спрашивал, обязательно ли было ликвидировать лошадь, на тот момент почти единственное тягловое средство на заводе?..
Веденеев уразумевал трудно: лошадь, причём тут лошадь, когда погибла Талочка… ну, да, лошадь пристрелили, чтоб не мучилась, её же больше нельзя использовать, так всегда – пристреливают.
Следователь досадовал: в его эксперименте недоставало чистоты. Для повторения события в интересах эксперимента в ближнем совхозе раздобыли другого конягу.
Следователь злился: ваше, Веденеев, дело не единственное, а одно из многих по саботажу, уходит время…
По видимости, следователь приступал с конца. Однако его беспокоило главное. Преступление совершили братья Мохрюткины, это считалось установленным. Последыши семьи конокрадов, скрывались поблизости от здешних мест, надлежало выяснить, вело ли их наитие, знали или слышали о заводской экспедиции от подельников среди работников предприятия, или они были частью нераскрытой банды, орудующей в окрестностях Города в момент, когда реализуются важные народнохозяйственные планы. В последнем варианте сознательное уничтожение тягловой силы могло рассматриваться, как элемент диверсии…
Следователь: - Всё не ясно. Навстречу вам с территории завода, пусть из жилой зоны, всё едино завод, воровским образом прокрадывается человек, удирает, а вы даже не пытаетесь задержать его. Вернулись бы предупредить сторожа – так нет, едете себе дальше. Время, сами знаете, какое, вражеских недобитков полно повсюду, вы не в артели «Пух-перо», а на государственном объекте особой важности. Мохрюткин явно выслеживал ваш маршрут. Поясните.
Веденеев: – Знал бы, где упасть…
– И всё же?
– Спешили. О цели поездки знали только три человека: директор, моя жена и я. Конюх не в счёт, она не была посвящена.
– Вы больше всех настаивали на срочности?
– Да. Люди сидели без зарплаты…
– Могли вас подслушать?
– Могли.
– Где и каким образом?
– Да хоть бы в гостинице. В землянке.
– Ещё где?
– Да где угодно. Кому нужно, тот уши навострит, не спасёшься…
Следователь облокачивался на стол, укладывал голову в развёрнутые ладони. Оба измотались: эксперимент начался в половине четвёртого утра, длился много часов, и весь вечер, следующий день и часть другой ночи длился допрос.
Следователь: – Допустим, спешили, допустим, не война. Однако же конюх Пелагея Журавкина опознала задержанного Мохрюткина. Выходит, она различила, а вы нет. Мохрюткин показаниями жителей Чеминдинска характеризуется как личность тёмная, из семьи лишенцев, уклонщик от мобилизации, чудом избежавший трибунала, злостный тунеядец и вор. Журавкина после происшествия поставила вас в известность, но в органы не обратилась. Вы тоже. Почему?
– Собирался. Не успел.
– Детский лепет.
– Журавкина о Мохрюткине отозвалась презрительно: шляется по девкам. Я был в горе и не сразу подумал, что он грабитель. Других объяснений у меня нет.
– Нарисуйте ещё раз, кто как располагался на телеге.
Веденеев брал карандаш и рисовал на бурой, с неперемолотыми щепками бумаге то, что от него требовали.
Письмо (перед опубликованием в городской газете слегка поправлено журналисткой Ларисой Сорокиной)
«Сергей Савватеевич, отзываюсь, сколько могу, на твою просьбу описать факты, без лирики. Боль притупилась за столько лет, но окончательно не ушла. Всё опять взбаламутилось. Но постараюсь рассказать, как было. Изволь прочесть.
Зарплата основная помещалась в двух брезентовых мешках. Стенки их выступообразно вздыбливались торчащими пачками сотенных, тридцаток, червонцев, пятёрок, рублей. Третий мешок был с мелочью, очень тяжёлый.
Я вынес деньги на банковское крыльцо, поставил мешки на телегу. Талочка помогала. Вышел из банка Жабреев с портфелем, где вёз документы. Талочка накинула на мешки овчину. Поехали.
Банковская площадь была безлюдна. Вообще городские улицы выглядели пустынно. Нам встретились только солдаты, шедшие строем, старуха с полными вёдрами на коромысле, какие-то дети… Никто не попадался нам и дальше, за городской чертой, на лесной дороге. Мы, понятно, чувствовали себя настороже, вглядывались в тени между соснами, в торчавшие сквозь белизну кустарники.
Жабреев отобрал вожжи и гнал, как хотел.
Вы не забыли? На двоих у нас было три ноги и три руки, всего шесть конечностей вместо восьми.
Кобуру я расстегнул и сдвинул директорский маузер кпереди.
Во второй половине дня пошли холмы, до серых папоротников, до чёрного брусничника близ одиноких стволов, обдутые ветром.
Жабреев разлепил губы:
– Скоро дом: деревня и завод почти что рядом.
Нам предстоял крутой спуск, его конец обозначался светлосерым бескорым пнём, стоящим наклонно. Этот очень высокий пень я заметил когда ехали туда – с него, взметая снежок, порхнула сорока. Сейчас, прислонясь к нему, стоял человек. Грунька пошла на спуск, и он двинулся нам навстречу.
– Затопчу! – крикнул Жабреев. Но тот поднимался. Башка здоровенная, будто водяночная, под рыжим треухом, как у киргизов или алтайцев, пальто городское, суконное, распахнутое, сапоги офицерские, хромовые.
– Уходи! – орал Жабреев. Лошадь пёрла прямо на этого мужика.
В руке у него отсвечивал топор.
Вдруг лошадь осела передними ногами, к ним подтянула, оскальзываясь, задние. Телега нас выбросила, раздался треск, и мы услышали дикий, мученический крик лошади.
Сзади, с горы шёл с обрезом второй урка – давешний, утренний.
Вырыли, значит, обманку на дороге, и ждали: нижний на виду, верхний повыше, за деревьями.
Я очутился на земле. Успел схватиться за горловины мешков с бумажными деньгами, решил, подохну, но не отдам. Впереди, у дерева, скорчилась Талочка. Жабреича я не видел. Бандиты подходили с двух сторон, а я всё, как помешанный, держался за мешки и не лез в кобуру.
– Стреляй, Коля! – приказал Жабреич откуда-то сбоку. И, отвлекая их: – Вы, гады, что творите? За нами лыжники, солдаты, энкавэдэ…
– Молчи, дурак! Мы тебе и солдаты здесь, и энкавэдэ, и лыжники без снега…
Мелковатый, поджарый мужичонка, щеря гнилую пасть, выстрелил прямо, почти в упор, убрал из игры Жабреева. Тут я и расстался с мешками, рванул наконец маузер. Нижний, топорник, бежал ко мне, а больше у них никого не было.
Я выстрелил в того, с обрезом. Намёрзшие руки подрагивали, но на стрельбах лучший результат получался у меня из положения лёжа, и я попал.
Он падал рожей вперёд, медленно, будто споткнулся о протянутую через дорогу верёвку. Упав, ещё пробороздил на брюхе и остался лежать ничком, с подвёрнутыми руками. Обрез отлетел в сторону, и тем спас налётчика: моя пуля ушла рикошетом и впилась в шейную мякоть, не задев сонную артерию, мне об этом потом сказали. Он выглядел мёртвым, и потому я всё внимание переключил на второго. Тот не ждал вооружённого отпора. И побежал. Ко мне.
Подбегая, он уже поднимал руку с топором. Одно оставалось – послать пулю в эту руку. Я так и сделал. Топор упал, рука повисла. Бандит завопил, стал опускаться на корточки.
– Стоять! – и я для острастки выстрелил ему поверх головы.
Так всё и было, Сергей Савватеевич.
Веденеев: – Я и повторяю, гражданин следователь: подслушать всё могли. В землянке занавесок навешено много, но от них звук только сильнее, потому что все же друг к дружке прислушиваются поневоле… и где-то в углу возились…
В следственном эксперименте взяли участвовать, кроме Веденеева, нескольких молодых работниц – на все роли. Среди них и Руфину, в девичестве Верёвкину.
Ныне Сергею Савватеевичу мало кто поможет восстановить истину. Оставались лишь Веденеев и Руфа, впоследствии она вышла за баяниста Веньку Рыжова, поменяла фамилию. Остальные – кто разъехались, иные умерли, и разудалый Венька Рыжов, заслуженный слесарь, ударник комтруда и прочее, тоже отыграл своё на баяне и после тяжёлой и продолжительной болезни (некролог в городской газете) покинул нас навсегда.
Выживший тогда Жабреев существовал замкнуто, бумаг после себя не оставил.
Рыжова одно твердит насчёт писаний для истории завода: «Я старая, мозги склероз разъел».
Дознанье
Подобно придирчивому режиссёру, следователь проигрывал с ними сцену разбоя. Выяснял, нет ли преступного сговора. Кажется странным, что в деле государственной важности разбирались не всепроникающие люди из НКВД, а простой уголовный розыск, но так оно и было.
На вопросы смог ответить единственный уцелевший участник бойни со стороны завода – Веденеев. Жабреев, полуубитый, не совсем в себе и своём уме, карабкался от смерти на госпитальной койке. За те дни, что прошли до начала расследования, в лесу многое изменилось. Два снегопада смели следы, удалось раскопать только кусочки наста, спекшиеся от крови. Память Веденеева оставалась единственным источником истины.
Одетый в шинелку, застёгнутую под подбородком, с натянутой на голову фуражкой и в непочиненных ботинках, следователь ужасно мёрз. И все, конечно, тоже. Но из лесу уйти до времени было нельзя.
Следователь: – Поясните, пожалуйста, почему, при одинаковом, по видимости, механизме удара при выбросе из телеги, вы, Веденеев, остались невредимы, тогда как ваша жена погибла, а Жабреев получил тяжёлое ранение? Покажите место, где оказались вы, а где Жабреев и Наталья Веденеева. А вы, Верёвкина, вы лягте под вон то дерево и постарайтесь представить себя в тогдашнем положении Веденеевой. Где вы стояли потом, Веденеев? И так-таки никого больше не видели? А если хорошо подумать? Покажите, где стоял нападавший, которого вы, по вашим словам, упустили…
Фразы, подобные последней, часто срывались у него с языка. «Будьте точны, ведь вы собираетесь ещё поработать у себя на заводе… или не так?»
Подозревался каждый, кто попадал в поле внимания следствия.
Веденеев:– Следователь сопровождал свои вопросы движениями рук, и я долгие годы спустя помню эти выразительные ладони – как часть кошмара, как неразрывную его принадлежность. Казалось, длинные, страстные следовательские пальцы, уже не жёлтые, а зловеще чёрные от махорки, витая у моего лица, упорно искали, нащупывали связующие нити. Дергали, не разбирая, и там, где кровоточило.
9.
Рыжова: – Не ждал меня, Сибилёв, признавайся!.. А я вот явилась на свиданку, хотя и не званная, и можешь не озираться: тот, кого ждёшь, сегодня не придёт. Ночью я к нему вызывала скорую. Назначили постельный режим и чтобы вызвать участкового врача.
Коля постучал мне в стенку. Как раз я и не спала. Внучка хворает, так я встала ей молочка согреть. Кормим по времени, витамины, закаливание… Надо, чтоб здоровыми росли, не то, что мы старичьё беззубое… Ладно, не о внучках, у-у-у, какой нетерпеливый!.. Я тебя ругать пришла, Сибилёв. Разволновываете вы с Барановским Сергеем Савватеевичем дружка своего. Сергей-то Савватеевич забавляется на старости лет писульками… возможно, и для потомства, что спорить, но кто о нашем здоровье позаботится, разве что сами мы друг о друге…
Это ты, Сибилёв, Колю разбудоражил. Ты, не отпирайся! Ты на заводе новый, – подумаешь, пятнадцать лет оттрубил до пенсии. Это не срок. Тебе лишь бы вызнать, приспичило выведать, отчего Коля Веденеев вторично не женился?..
Коля был мужчина видный, на него не одна женщина глаз положила. Ходил – что на деревяшке, незаметно. Ну, как будто не заметно. Надо приглядываться, а кому охота – мужиков с фронта не так много вернулось, все наперечёт… Танцевал – как будто обе ноги есть, и здоровые! И зарабатывал по тем временам прилично. Так что за него любая пошла бы.
Нет, бобылём остался.
Талочка так им дорожила, могла бы и не ехать, да как не поедешь… Погибала страшно – шея вывернута, порвана, позвонки изломаны вдребезги… Коля причикилял к ней на деревяшке, припал к своей Талочке и чуть не умер от горя и ужаса. А на нём, между прочим, три мешка денег, один – с мелочью, тяжеленный, как станок у нас на штамповке…
Про Жабреева? Коля подумал: неживой и Жабреев.
Притащили в завод. Обоих пострадавших – живого и мёртвую.
Коля пришёл к заму – тогда Супонин крутился, случайный на заводе мужчина, после он сошёл незаметно. Заробел: люди погибли, как деньгами распоряжаться до приказа от властей? Коля настоял: деньги в сохранности, зарплату выдавать необходимо. Ну, вот. В сборочном цехе на конвейерную ленту положили кумач. Все плакали, все, все, Сибилёв… Воронин, парторг, сказал речь, промямлил, но кто бы придирался…
Раскрыл Коля платёжную ведомость, и бледный стал, как полотно, краше в гроб кладут, но не отошёл от кассы, сам отсчитывал, что положено. Всю церемонию сам провёл…
Что говорить, тогда к деньгам было другое отношение. Думали не про роскошество, а про то, каким трудом они достаются. Какой кровью.
Когда брали Мохрюткиных, там ещё два брата-акробата нарисовались в семейке, одна бандитня, – проводили через толпу, то женщины их едва не растерзали. Милиционеры удерживали.
И тогда тоже умели преступников отлавливать.
Ну, все подходили, расписывались. Коля каждому руку пожимал. Слёзы ему я вытирала…
Хоронили Талочку, как на войне. Стреляли вверх. Из маузера.
Вот, милый Сибилёв, и всё.
Так и скажи Сергею Савватеевичу: всё.
– Надо было рисковать или нет? Сами, старики, и решайте. А я что? Моё дело десятое, мне только молочка взять в магазине, да хлебца, да крупы перловки – для птичек…
–А сама хлеб есть перестала?
– Очень редко, если только кусочек…
– По телеку твердят: вредно…
– Да как не верить – телек же, там проверяют. Ладно. У нас завтра балетный кружок, она горячее молочко не выносит, а тут посылает: иди, баба, я пропускать не хочу, а хочу лечиться.
– Я одного не пойму, Руфина, – не выдерживает, переводит её на другое Сибилёв. – Что вам за следователь такой попался – дотошный. Эксперимент ему зачем-то понадобился. И так дело ясней ясного, – как на ладони: грабители, плохие люди, не наши, бери, арестуй – и на срок, или там под расстрел подводи. А он вот еще всё, как на сцене, разыгрывает. Спрашивается, зачем собаке блин, самому тяжело, и людей замучил. В ОГПУ бы враз всё открыли…
– Какое тебе ОГПУ? Зачем ОГПУ? Опомнись ты, Сибилёв, миленький! Тогда было энкавэдэ, вспомни… Мохрюткиных братьев туда и передали. Их дальше и след простыл…
– А, может, ГПУ с вами и занималось, – вдруг начинал догадываться много чего знающий Сибилёв. – Только прикрылись чужим именем, а? Тебе никогда не казалось?
– До того ли мне было, чтобы разгадывать? Дрожала вся от холода и от страха. Ну-ка, под деревом полежи, где только сейчас человека убили… да в мороз, да в одежонке бросовой – небось, и ты забоишься… И сейчас, как память проснётся, дрожать начинаю. Власти боялась, конечно. Вдруг признают виноватой в чём-то? Да кто не боялся, скажи?.. Порядок был, Филимон Митрофанович, порядок, понимаешь? Следователю так велели – он делал… А что да почему, наверное, он и сам не знал. Порядок не нам разбирать… Не то, что теперешние, расхлябанные, только бы увильнуть…
– Ну, и объяснения у тебя, Руфина, сразу всё по полочкам…
– Опасный ты человек, Сибилёв. Задержал меня вон как. Коля захворал, в лёжку лежит. Пойдёшь проведывать – прошу тебя, как друга, прошлое не вороши. Говори про нынешнее.
Часть первая. Нападение
Глава первая. Предупреждение
Мастер Ахтубин бежал по заводскому двору, да вдруг споткнулся и встал, как вкопанный:
– Ба, Николай Ильич, сколько лет, сколько зим, куда вы запропали?
– Погоди, Феденька, проберусь к тебе.
Пожилой человек с печальным лицом и глазами, выражающими боль и страдание, ветеран завода Николай Ильич Воронин, пробовал землю ногами в мелких штиблетах. Нынче на Новой площадке асфальт, по любой погоде пройдёшь в легкой обуви. На Старой же в сырые дни по-прежнему желательны сапоги, но, едучи в машине, в сапоги влезать как-то не хочется. Сегодняшняя грязца – так себе, можно мириться без лишней воркотни.
Немощёная земля на заводской территории раздражает, зато рядом лес, река, благотворные для человека изначальные каменные (а не панельные) бараки, где размещались цеха, переехавшие недавно во вновь построенные корпуса Новой площадки. В ту эпоху, когда производство базировалось здесь, Николай Ильич пользовался известностью, был в авторитете. На ламповом «Старте» поднимался до должности начальника ОТК.
Николай Ильич – из тех, уже немногих оставшихся, кто не называет Ахтубина на «вы», а, между прочим, мастер Ахтубин тоже не юноша, 38 лет, среднее заводское поколение. Причем обращение не начальственное: руководство тыкает тебя независимо от возраста и стажа, а такой вот Николай Ильич относится по-отечески, как старый педагог, по шерстке поглаживает выросшего ученика.
Когда-то завод чуть ли не исходил обсужденьями насчёт Воронина. Николай Ильич по очереди (или каким-то образом обойдя её) купил «москвича-408-го», и пошли вопросы с подковыркой: дескать, куда ездить станешь, Коля, по нашим богоспасаемым Чеминдам, всех куриц распугаешь!..
Потом поднялись многоэтажки, улицы легли асфальтом, машины вздорожали, появились усовершенствованные варианты, и в немалом количестве, так что очереди, несмотря на цены, уменьшились, приобрести машину стало проще, и хлынул вал покупок, брали все, кому не лень, рабочие, ИТР, строили гаражи, проводили там время, сбивали с соседями компании, чтобы попивать на досуге водочку – вдали от жен… Воронин, автопионер, сменил 408-ю модель на 412-ю. Машину держал в сарае, в гаражное братство не влился, из-за того, что жил на отшибе, в отдельном финском домике с пристроенным мезонином. Ездил в основном на работу, да изредка по другим неотложным делам.
Тоже бедун. Выросла, уехала с мужем дочь. Жена познакомилась на курорте с человеком, для нее лучшим, чем Воронин. И в этой прискорбной ситуации Николай Ильич снова слывёт первопроходцем: после их, не слишком примечательного (заметим кстати) развода, распавшиеся семьи на ЧРЗ становились едва ли не заурядным явлением. Кто-то не выдерживал вечной текучки, сверхсильной загруженности, бесился, воображал себя в одиночестве непонимания, и это при живом муже или при живой жене… Воронина, соломенного вдовца с машиной и собственным домом, атаковывали разведённые жёны, но он устоял.
– Полюбилась сатана, забудешь про ясного сокол`а, Николай Ильич, – говорила Вепрева, тоже в одиночку кукующая на заводе. – Так ваша супруга и поступила. Припозднилась, правда, оттого вам и больно вдвойне. Всё надо делать заблаговременно, включая и разрыв. Но не смертельно, вы ведь уже привыкли, так? Дальше ещё легче будет.
Это она сегодня утром так утешала, по дороге в аэропорт.
Позвонила:
– Выручайте, Николай Ильич. Самолёт через два часа. Просить у начальства, сами знаете, как у нас насчёт машин.
– Вы на работе?
– На работе.
– Выходите на проходную, Альбина Севериновна.
В пути старые, бескорыстные друг к другу, редко встречающиеся приятели помаленьку отводили душу. Воронин знал: она не его, а свою боль пытается уменьшить. Угрызения совести – штука зверская. Муж погиб от саркомы, а незадолго до этого они развелись. При её умонастроении такую вещь, как саркома, связать с отвергнутой любовью – пара пустяков. Вепрев свалился, Альбина вернулась – выхаживать. Самоотверженность вместо любви – нет, не проходит. Плата вышла суровая: дочка Ольга с малолетства сбегает из дома, Альбина время от времени пытается её находить, не всегда в Чеминдах, мать берёт командировки, срывается наобум, каждый раз предполагая, где найдётся непоседливое чадо.
После смерти мужа Альбина полностью приняла его верование в пришельцев, и не скрывает ни от кого, что думает об инопланетянах и всяких, там, перевоплощениях, как о полной реальности. Иные за глаза посмеиваются, но большинство принимают Вепреву, как она есть, вместе с теми пришельцами и кармой всяческой.
– Куда-то ездили, Николай Ильич? – спросил Ахтубин.
– Отвозил к самолету Альбину Севериновну. Головчинов дал ей задание перед новой моделью побывать в ИРПА*, разузнать обстановку.
*ИРПА – головное экспертное учреждение: Всесоюзный Научно-исследовательский институт радиовещательного приёма и акустики.
– Как Сувенировна поживает?
– Севериновна, – поправил по-серьёзному Воронин.
– Снимаете её в картине, Николай Ильич? – спросил Ахтубин.
– Хотелось бы, да наверняка откажется.
– А вы уломайте, Николай Ильич. Нас, бракоделов со стажем, осталось по пальцам пересчитать при нынешней текучке. В фильме о юбилее завода должны бы все сняться.
– Видишь ли, Феденька, основной материал отснят, а Вепревой кадра не досталось. Мережников обещает подкинуть деньжат еще на одну часть. Но как уговорить Альбину?
– Попробуйте через Головчинова. У вас лад с ним?
– А, может, подключить Мельникову-Крафт?
– Ну, начинается высокая заводская политика: как говорится, весь Чеэрзэ от Альбины до Регины, и обратно. Сие мне не по зубам. Моя беда с виду попроще: приёмники налево поплыли.
– Старая песня: объявляют полноценное изделие некондицией, выделяют штуки на подарки и представительство. Якобы действуют на благо завода, цель оправдывает средства: не подмажешь, не подъедешь – к плану, к прибыли, ко всему. Я этого не понимаю, хоть убей. Отстал, говорят.
– Большое бедствие, Николай Ильич. А где бедствие, там и следствие: параллельно спецзаказу вульгарные кражи посыпались. Тащат и тащат. Боюсь, аппараты от меня волокут, сердце не на месте.
– Ты, Феденька, будь на страже. Про всё забудь, а здесь – бди. Ты прав: левая продукция взяткистам и обыкновенное воровство – звенья одной цепи. Отвечает всегда стрелочник – ты, мастер. Требования, вместе с порядочностью, Федя, кругом снижаются. Возьми бывшего директора ЧРЗ: Войтов, государственный человек, поставил во главу угла личные интересы, и, в результате, взят на более высокую должность!.. Охрана, опять же, слабая. Не тот, кто ворует, вор, а тот, кто вора проспал.
– Или тот, кто на вора глаза закрыл.
– И это, и это… А нынешний ОТК* товарищ Костерин – ему кондицию от некондиции
*ОТК – отдел технического контроля
бывает сложно различить. Держится за старые заслуги, да за покладистость. И Войтову угождал, и Мережников от его услуг, будь уверен, не откажется.
– Уж я-то Костерина знаю, Николай Ильич. Войтова он устраивал: в меру строг, в меру покладист, браковал и пропускал по директорскому запросу и указу. Крен был не на экспортную продукцию, и ОТК мог действовать в широких пределах допуска. Нынче происходит поворот. Мережников глядит дальше собственного носа. Его присказка: вал и качество – враги-братья. Из-за вала качество не разобрать, слишком высоко надо взбираться..
– Взяткистами, Федя, экспортная продукция особенно ценится. Ты, брат, смотри: как на экспорт поставят, жди задачку… Престиж, Федя, на первом аккорде. Взять тот же фильм. Пользуются моим пристрастием к литературе, но писать стихи и снимать документальное кино – совсем не одно и то же. Об игровых сценах договорился, актёрам платить надо, а денег нет. Орудовать со спиртом или, упаси Господь, с некондицией – уметь требуется. Я и не берусь.
– Раньше легче было. У меня кореш Фастриков…
– Который? Гоша, нос красный?
– Пять лет, как не пьет. Так он, задним числом, на Барановского не намолится. «Сергей Савватеевич, там голова, что ты-ы! Культура, ого!». Выпил как-то Гошка перед обедом стаканчик спирта. Вызывают к Барановскому: «Зайди по ферритам». Ну, Фастриков кинулся искать, чем бы заесть. Пришел к Сергею Савватеевичу, тот просит: «Объясни, у тебя не идёт, перерасход». «Да я, Сергей Савватеевич, да я… Всё исправлю». «Ну, ладно, в последний раз спишу.» Всегда, бывало, в последний раз. Пошёл Гоша, от двери слышит: «Хорошо, когда от мужчины пахнет спиртным, но плохо – когда чесноком». – Фастрикову, значит.

