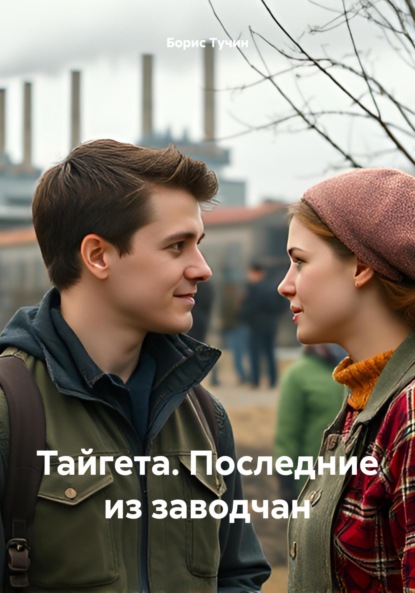
Полная версия:
Тайгета. Последние из заводчан
В числе немногочисленных избранных членов партхозактива был приглашён и потому находился здесь директор ЧРЗ товарищ Мережников, заслуга которого заключалась в том, что под его руководством предприятие разработало новый, усовершенствованный музыкальный центр, и как раз в эти дни доводило до ума выпуск изделия в массовое производство.
Лучшего подарка нашим товарищам из-за рубежа область не могла предоставить, а у нас ведь не принято отпускать гостей с пустыми руками, хуже того, отдавать выпавшую на долю нашей областной партийной организации почётную возможность в в`едение территориальных соседей, – чего, чего, а уж подобной роскоши товарищ Черносвит никоим образом не мог позволить ни себе, ни подведомственному ему партхозактиву.
Во время трапезы Первый спросил:
– Тебе, Мережников, сколько времени нужно для окончательной доводки изделий подарочного образца?
– По плану – выпуск в следующем квартале…
– План – это прекрасно. Срывать правительственные задания не следует. Но нас никто не отодвигает и от перевыполнения… Сейчас только начинается нынешний квартал. Три месяца запрашиваешь? Не дадим…. Гости будут через две недели. Так что десяти дней тебе за глаза хватит. Что-нибудь потребуешь для улучшения самочувствия?
Мережников счёл недальновидным портить настроение Хозяину выдвижением возражений по ситуации на производстве.
– Пришлите толкового редактора городской газеты, – нашёлся Мережников. – А то у меня в «Новой жизни» за год меняется четвёртый, газета и без того хилая…
– Молодец. За что тебя уважаем, Мережников, так это за то, что на первом месте у тебя моральный климат не только на предприятии, но и в городе.
И Хозяин приказал секретарю по идеологии Верхоленскому подыскать и согласовать с Мережниковым толкового редактора городской газеты.
Среди провозглашённых здравиц два тоста Хозяин посвятил:
а) успеху Чеминдинского радиозавода в производстве новых изделий, выходящих уже на международный уровень, и
б) капитанам нашей промышленности, красным директорам, болеющим за моральный климат.
Внимание Первого, к тому же члена ЦК партии, – знаменательно.
Значит, завод наш у власти не на последнем счету…
Дома, на заводе Мережников поделился впечатлением с Барановским: хрусталь, сервиз с пейзанками в панталончиках, изысканные закуски, икра двух видов, финская водка, армянский коньяк и, как бы в придачу, смазливые молодухи в парадном ресторанном антураже.
– Как думаете, Сергей Савватеевич, долго ли мы сумеем удержаться от подобных эксцессов?
– Чем раньше начнёшь, Андрюша, тем быстрее втянешься. Банкеты – неизбежность наших дней. Того же Хозяина с челядью будешь принимать, угощать необходимо по близкой к этому схеме. Иное обращение они теперь плохо понимают. На всё – свои ГОСТы*.
*ГОСТ – государственный стандарт. В данном случае – шутливый намёк на утвердившийся обычай.
В идеологическом отделе обкома партии успешному директору градообразующего предприятия, разумеется, пошли навстречу, тем же мигом привезли и представили редактора из областной молодёжки, которого обрадовали внезапным переводом – на вырост – в чеминдинскую «Новую жизнь», орган как-никак горкома партии.
Сделавшись таким образом своего рода мандатарием областного комитета партии, окрылённый Редактор – газетчик, надо сказать, честолюбивый, к тому же небесталанный и уже поднаторевший в профессии, – начал выпускать действительно интересную газету, прямо-таки по московским образцам, а кроме того сразу же стал вхож к директору завода в любое время суток, и съездил с ним на охоту, и они с женами-семьями вместе проводили отпуск.
Такого приятеля, как Мережников, – где бы Редактор ещё приобрёл? Потому теперь он ради прославления завода в лепёшку расшибается, и у себя в газете, и через друзей-собкоров в центральной прессе.
Информационный повод, чтобы получить одобрение обкома партии и санкцию на издание книги, – первый отмечаемый юбилей, 30 лет заводу. На верху Мережникова опять одобрили: инициатива добрая, молодец, не дожидался, когда бы мы подтолкнули…
5.
… и как, вы полагаете, поступил Мережников?
Правильно, нашёл исполнительницу.
Решил вопрос.
И всё завертелось.
Журналистка – громко сказано. Но, раз произнесено Мережниковым, – так и воспринимайте, товарищи дорогие!.. Вот как у нас растут люди: директор, приняв решение, мигом пригласил к себе девчонку из самодеятельного театра, ученицу в сборочном цехе, воодушевил, убедил, что она потянет, если не станет лениться, определил на рабочую ставку в штат десятого цеха, а для приобретения опыта послал на стажировку к своему приятелю, редактору местной газеты, с которым он уговорился, во-первых, чтобы стажёрку никакими другими заданиями не отвлекали, во-вторых, пусть бы подготовленные ею отрывки из книги по мере изготовления сразу начинали печататься материалами с продолжением – в городской газете.
У него на всё темп, у Мережникова. Сказано – сделано. И, главное, приступлено без промедления.
Концентрируется материал у Барановского, а та журналистка повадилась ходить к ветеранам завода с просьбами от Сергея Савватеевича, чтобы составляли воспоминательные записки, а в редакции их отредактируют, потом включат в издание отдельной книги.
Потому что надо оказать честь родному заводу, быть может, для кого-то (в силу возраста и присущих старости болезней) – последнюю.
Барановский знает, что говорит, родился еще в восемьсот девяностом, вот-вот та, чёрная, с косой которая, заявится по душу славную…
Рыжова утомилась уже на третьей странице, внучкину шариковую ручку с тетрадкой отложила, куда засунула, не помнит, а по-новой никак не нацелится. Остальные, не приступая, отговаривались отсутствием литературных способностей. Тогда бойкая журналистка начала их активно обзванивать, предлагая свои услуги, чтобы диктовали, а она обрабатывала. Наверное, на таких условиях дело пойдёт.
Кто-то и обижался: Барановский не сам с нами якшается, а через посредников – посылает девочку-журналистку, но что она, ребёнок, понимает в нашей истории…
Хотя все одинаково кормимся от собеса.
И Барановский тоже…
Ладно, наше с нами останется – жили, и жили.
6.
… а умер Жабреев под самые крещенские морозы, и несколько дней, пока слегка не потеплело, мертвое тело покоилось в леднике больничного морга. Дирекция дома-интерната попросила завод посодействовать в устройстве похорон. Мережникову на селекторном совещании принесли записку, он объявил, что вот, скончался Никифор Серафимович Жабреев, и моментально экспромтом нашёл прочувствованные слова: вот, ветераны уходят, большое им спасибо, если бы не они, так и нас бы здесь не было… И тут же во всеуслышанье дал команду хозчасти выделить для рытья могилы крепких ребят, с оплатой рабочего дня по тарифной сетке и двойными сверхурочными, а также немедленно изготовить и поставить оградку и памятник – руками завода и за его счёт, естественно. Сергею Савватеевичу озаботиться о некрологах в нашей многотиражке и городской газете.
– А мы продолжаем. Как с комплектующими на последнее изделие? Десятый цех, вам слово…
Четверо мужиков, отогревая землю на выделенном месте, наливали и жгли мазут, долбили размерзающийся грунт ломами, прикладывались для согрева к столичной, купленной на выделенные профкомом деньги, но не пьянели из-за того, что холод… Поминки тоже были организованы профсоюзом – в заводской столовой. Барановскому пришлось говорить речь, потому что директор с главным инженером Чистовым не присутствовали, они сразу после совещания ночью улетели в командировку в Москву, зато из начальников цехов и участков многие были на кладбище и затем в столовой…
Рыжова, язвочка ещё та, называла их сходки скверными утренниками, либо вечёрками на скверных скамейках, а самих стариков, соответственно, – скверными. От слова «сквер».
В любом из наших городов, посиживая на таких вот скамейках, пенсионеры многое переделывают в минувшем: перестраивают, совершенствуют, шлифуют. «Сделали бы, как я предупреждал…» и прочее. Рыжова смиряет: «Будет вам хвалиться-то, посмотрите на себя – старые, слабые, у того диабет, у этого склероз с гипертонией, с таблеток не слезаем, у меня из-за варикозов ноги едва двигаются». Нет уж, ребятушки, прошла драка, сейчас кулаками станете махать, руки отобьёте – и весь результат…
Инструкции, уставы – всё нынешнее, рассчитанное на теперешнюю жизнь и теперешних людей… Соглашались: нашего брата всё меньше, с кем переделывать?..
На сороковины после смерти Жабреева Сибилёв сказал, что, мол, Коля с Жабреевым, кажется, так и не доспорил, Рыжова недобро глянула на Веденеева Колю и довершила:
– С тобой, Сибилёв, доспорит. И чего делили? То ли яблоки?
– Почему яблоки, Руфина?
– Мы с внучкой, когда решаем из задачника, то раскладываем яблоки или семечки от подсолнуха. Ребёнку понятнее, если с ним не абстрактно…
Сибилёв удивился: я о зарплате, а ты о яблоках…
– А зарплату нам с Иришкой делить ещё не время.
Веденеев засопел – первый признак, что начинает сердиться. И верно:
– Ты бестолковщину оставь, Руфина! Если про ту, талочкину, зарплату, то я от своего мнения не отступал ни тогда, ни тем более нынче, через тридцать лет.
– Да ты чо, Николай Фёдорович, окстись, родненькой, – отступила Рыжова. – Не хочу обидеть…
– Деньги народу надо было платить, – не унимался Веденеев, – и в тот день, а не после. Все ждали… И попробуй, не выплати, все голодали, война же окончилась, но еще у всех была в крови…
Сидели без молодых, и шло на откровенность.
– Тогда, Коля, деньги были – деньги.
– Карточки…
– Карточки – временное… И на них без денег тоже не отоваришься… К ним так и относились: за денежку напашешься до кровавых мозолей. А у нас ныне-то – приёмники тащат, краденными стереоголовками все рынки завалены.
Сибилёв не согласился: воров обэхээс* ловит, и вообще – верить людям*
*Обэхээс (сокращенно, в речи, на письме – аббревиатура ОБХСС) – Отдел борьбы с хищениями социалистической собственности.
надо, не все же воруют, а, кого поймают, то по головке не гладят.
Она одёрнула: чепуху молотит.
– Воровство – оно то стихает, то снова волной катится, вечный процесс… А у тебя голова сроду под крылом, как в песне: ничего не вижу, ничего не знаю…
Обиделся:
– И я не с луны свалился, на земле живу, на советской. Понимаю про общее богатство: примазывается всякая нечисть…
– Начальство – тоже кто как устраивается. Я Полувееву, замдиректора по общим вопросам, в глаза высказывала: машины гоняешь налево, по своим надобностям, сам пьяный на казённых лимузинах раскатываешь, а молодых порядку, вроде бы порядку! – учить не забываешь – совесть где?..
– А он чо?
– Вас, мужиков, разве прошибешь? «Да ты чо, Александровна, да кто тебе сказал, да никогда в жизни…» Глазищи выкатит, винцом отрыгивает, на роже блины не испечёшь, сгорят…
Сибилёв, никогда не пивший, пробует войти в положение.
– В снабжении без бутылки нельзя. Везде – подмазать. Так люди и спиваются…
– Раньше так не было. Сергей Савватеевич сам не выпивал и других осаживал.
– Много ты знаешь… У Савватеича чистый спирт всегда не выводился. У меня сноха в медсанчасти работала – через медсанчасть столько спирта выписывали, что счёт не просыхал. Но, конечно, дисциплина была не в пример нынешней.
– То-то и оно, что дисциплина…
– И то. Сравнила!.. Там – культура какая!.. И время иное. Сейчас по телевизору все выпивают. Тогда телевизора не было.
– Кино было. Артисты прикладывались…
– Не в этом дело. А в том дело, что начальники эту жизнь поняли. Кремней, как Сергей Савватеевич или Жабреев, царство ему небесное, ох, как не любят. Кремни своё отробили, как смогли, Руфина. Павку Корчагина нынче днём с огнём не найти.
Веденеев не слушал. Молчал. Думал.
7.
… Проснулся от ледяного продрога, в мозгловатой темени. Приподнялся на локте, ждал, пока глаза привыкнут, но мгла была густая и долгая.
Он истратил спичку, чтобы осветить циферблат часов.
Была половина четвёртого.
Вся землянка-гостиница шумно дышала, храпела, ворочалась и вскрикивала во сне. Бязевые занавески лишь условно разделяли пространство.
Жабреев спросил:
– Где будете жить? Могу определить на квартиру к кому-нибудь из деревенских, а то – в гостиницу, здание земляного типа, зато из заводского фонда.
Талочка купилась:
– Из заводского! Только в гостиницу!
– Устраивайтесь.
Жабреев директорствовал второй месяц, и сам спал в конторе на составленных стульях. На приказе об организации завода радиоаппаратуры ещё, что называется, не высохли чернила. В качестве цехов предприятие получило десяток каменных бараков – склады бывшего элеватора. В первые годы войны здесь делали танки; оборудование крепилось на земляном полу, оттого земля покрылась колдобинами, ходить по ней без света было опасно. Как только отошли эшелоны с реэвакуированным заводом, появился Жабреев. Коллектив составлялся с бору по сосёнке – из нескольких рабочих, оставшихся от предприятия-предшественника: они успели обзавестись семьями и приживались в Сибири. Нанимались и местные.
Жабреев написал кое-кому из друзей-фронтовиков, что назначен директором, и без проволочки в Чеминдинск пришли телеграммы одинакового содержания: «Присылай вызов».
Жилья было: деревянный барачный городок в лесу, у заводской ограды, пять двухэтажек в линию вдоль новой улицы, достраиваемая двухподъездная трёхэтажка – небоскрёб – для дирекции и отборных ИТР*, да здание земляного типа – гостиница,
* ИТР – инженерно-технические работники.
Жабреев определил: ничего себе блиндажик. Знал, о чём говорил.
А вот о том, как делается радио, Жабреев не имел ни малейшего понятия. В главке обещали прислать специалистов, но медлили. Потом-то прислали сильных профессионалов из молодых преподавателей, немного оголили Семипалатинский техникум, но для дела в те трудные годы и не такое практиковалось…
А в первые дни нашлись трое подростков из чеминдинских. Вычитывали руководства в старых номерах журнала ХВЗ («Хочу всё знать»), где помещались статьи со схемами об устройстве детекторных приёмников, и почти из ничего, из воздуха и отходов прежнего производства несколько штук слепили.
Подарком с неба свалился инженер с довоенным опытом Сунгорский, высланный в Чеминдинку по какой-то причине (если и была причина).
Несемейный, бездетный, бездомный, с прежним заводом в реэвакуацию не выехавший, Сунгорский нигде не мог (или не хотел, что тоже вероятно) устроиться, опустился, питался подаянием. Зимой явился в милицию: берите меня обратно, хоть буду при месте. Милицейские смеялись: туда, куда просишься, лимиты на этот месяц исчерпаны, жди следующего…
В это-то время и заприметил его Жабреев, оказавшийся в райотделе с просьбой дать милиционера для охраны ценностей. «Хотите на завод?» Сунгорский и захотел… Он сразу же получил три талона: на баню, в столовую, на койку в гостинице. И в приказе обозначился: и. о. главного конструктора.
До реальной продукции предстояло шагать и шагать. Осваивались: заполняли пустоту станками и механизмами, добывали транспорт, налаживали питание и снабжение, обучали рабочих и ИТР. Жабреев зарегистрировал завод, где надо, написал, по установленному образцу, документ, поименованный уставом. В цехах и конторе работали, не снимая телогреек. Следовало позаботиться о зарплате и продуктовых карточках; на отпущенные кредиты – забирать радиодетали и прочие нужные для завода вещи.
Принимая Веденеева, Жабреев сказал:
– У тебя в трудовой книжке написано: счетовод. Будешь главбухом.
По совпадению, тут же и получили телеграмму из Второго Главка: для начала хозяйственной деятельности на ваш расчётный счёт в областное отделение Государственного банка переведены пятьсот тысяч рублей.
Веденеев остался на ночь в конторе, прилёг на столе. Главбух бессонному директору мог понадобиться в любую минуту.
– Коля, время подгоняет, – сказал Жабреев сгоряча. – Завтра едем в банк.
– Прямо завтра?
– Праздник на носу. Можно и после Октябрьской, но, если выдать людям зарплату перед праздником, то положим заводу добрый зачин.
Жабреев однако закопался в бумагах. Сидел при семилинейке, подливал и жёг керосин напропалую. Света от заводского движка производству хватало только на утро и часть вечера. Старичок-истопник подкармливал свой локомобильчик дощечками и другим деревянным хламом, что успевал на территории насобирать за день.
Жабреев поднял голову.
– Ты что, Коля? Не спишь.
– Как – что? Мы же в банк собирались. Не до сна мне.
– Я передумал. Отложим всё-таки. С оборудованием надо разобраться.
– Тогда с зарплатой к Седьмому не успеем.
– Теперь ты, Коля, торопишься? А надо? – Голос у директора сиплый, сорван от крика на морозе и курева. Левая рукавина, пустая, всунута в карман. Из-под ватника над воротом гимнастёрки торчит краешек несвежего бинта: гноится перебитая ключица, Талочка перевязала чистой холстинкой – оторвала от простыни, проутюжила. Медицина на заводе отсутствовала, никакой аптечки, поедем за деньгами, оказией посетим больницу и госпиталь, там и там выпросим хотя бы малость бинта, ваты и марли, тоже и йода с зелёнкой.
Жабреев до глаз зарос поседелой бородищей, бриться некогда, скалился зверовато, морщился от боли и самокруток с ядовитой махрой.
– Я подумал, рано, милок. До завтра, а?
– Опоздаем, Никифор. День туда, день сюда, да и там одним часом не обойдёшься…
– Успеем, за сутки обернёмся… Напрасно я тебя раскочегарил.
– Людям деньги нужны в срок, – настаивал теперь уже главбух.
– А в нашем положении деньги – бумага. Магазинов у нас нет. Кому деньги, зачем деньги? Что на них купишь, товаров нету. Не нэп. Люди не голодают: выдаём паёк по карточкам, у кого семьи большие – даём в долг, под расписку, вон у тебя этих писулек сколько накопилось. Есть мука, пшённый и перловый концентраты, сухари, два мешка конфет. Наши с обменом в колхоз уехали, за горючку раздобудут капусты и картофеля. Деньги из банка никуда не денутся. Потом – без охраны опасно. Вот пришлют милиционера, тогда… К завтрему все концы сойдутся, Коля.
– У тебя что, револьвера нет, Никифор? А ещё директор!
– Маузер, да что толку? Гнать за сорок вёрст полную телегу денег – не ближний свет. Иди к себе спать. Давай, топай, я тебя отпускаю. Вот записка на баню. Талоны возьми у завхоза.
8.
Руфина Рыжова: – Жабреев чувствовал беду. Всё ты, Коля, две ноги в один сапог: ехать и ехать!..
Веденеев: – Ты, Руфа, меня не собьёшь. Деньги – часть советского образа жизни. Мера труда. Они должны поступать трудящимся бесперебойно. А в предчувствия всякие я не верю. Ты, может быть, как женщина, суеверна, я нет.
– Сердце ему подсказывало…
– Сердце подсказывало другое: и платёжная ведомость воюет. Верить в предчувствие – мистика, От старости.
– Сейчас не одни старые в предчувствия верят.
– Такие, как ты, настырные, кому хочешь голову заморочат.
– И правда, Коля.
Мучать его расхотелось.
Веденеев
Сибилёв крепко задел его.
Ночь показалась нескончаемой.
Он поневоле прослушал весь дом – дверные громыхания и скрипы, запоздалый скрежет и рокотанье стиральных машин и поздний телевизор («Уд-да-ар! Го-о-ол!»), бубнящее радио, громкие шепотки в подъезде и плач ребёнка, ругачку пьяного дурака, а дальше уже и ранний «Маяк», и стук уроненной гантели, и дятлом бьющую по ушам пишущую машинку диссертанта… А с шести тридцати утра, хоть не заводи будильник, – неукротимые фортепианные гамы выносливой и терпеливой девочки из сорок первой квартиры.
Внутри этой чужой жизни постигла его и минута забытья. Талочка присела на белом госпитальном стуле, погладила руку. Нагнулась, подбила с двух сторон подушку. Мебель вся выкрашена одинаковой белой масляной краской – стол, стул, кровать и тумбочка.
… Позже в землянке, прилаживая без света жалкие свои ремешки-держалки, он услышал её шёпот: « Разве пора, Коля?» «Талочка, ты бы осталась…» «Когда я тебя оставляла? Покуда я с тобой, и ты целый…» Дольше перешептываться было неудобно, кругом люди.
Поднимаясь, он едва не уронил ведро.
Талочка и впрямь никогда не раздумывала. И в те давние, сказочные предвоенные дни, когда её с двух сторон осаждали авиаторы Ашихмин и Веденеев, а она ни одному не отдавала предпочтения, но и не прогоняла ни того, ни другого. Оба не годились в герои её романа, а третий не появлялся.
… в голубое полудённое мгновенье, на тренировочном поле…
Неотвратимая, как метеорит, из голубизны, в чаду и пламени, свалилась машина Веденеева. Их Старший, багровея, нёсся на перкалевый костёр с поверженным в нём человеком. Впереди Старшего бежала женщина. Старший, опасаясь взрыва и второй жертвы, вопил во всё горло: «Назад, медсестра! Я сказал: назад!» А Талочка всё оставалась впереди него, и это Веденеев ещё смог увидать и запомнить, а вот как она выдернула его из огня, из обломков, уже не воспринимал… странно, он горел, а серьёзных ожогов не получил, возможно, потому, что тогда не носили ничего капроново-нейлонового, хотя плащи-то были из прорезиненной ткани, тоже, по-нынешнему сказать, синтетика.
…а ногу ниже колена как ножом срезало.
…и Веденеев истекал кровью, плавал в луже крови, и как-то те двое остановили кровотеченье, уняли, и он выжил. Наташа не любила вспоминать: остановила, и остановила – ну, жгут, ну, индпакет, ну, повязка, меня же учили. Ну, Еремей Ашихмин помог – держал крепко… и не допытывай – жив, и ладно…
Много суток он был между жизнью и смертью. Талочка дежурила безотлучно, что объяснимо: полётная медсестра, в чью смену произошла катастрофа.
– Что Старший? – спросил Веденеев, чуть оклемавшись.
– Признали: не виноват. Машина отказала.
К Веденееву окончательно вернулось сознание, и с тем – отчётливое понимание рокового смысла случившегося.
Наташа ушла с полётов и поступила в госпиталь. Ради меня, калеки.
А она, собственно говоря, уже там, на поле, в первом порыве, узнала и свою, и его судьбу… Но тот, кому довелось опробовать крылья, никогда не смирится с увечьем; лётчикам тогдашнего, близкого к пионерному, времени не летать – значило не жить. И Веденеев не торопился сдавать пистолет, примеривал и так, и этак.
Талочка предвидела.
И удержала.
Веденеев: – У кого что болит, Руфа… Скольких людей я знал или примечал, что мучаются ногами, – в больницах, на протезных заводах, среди ветеранов, на улицах, в очередях… То мальчик с параличной ножкой, то девушка, припадающая на от рождения укороченную ногу, то хромой инвалид с палочкой, то катит на коляске… потом разбогатели, появились «запорожцы» с наклейкой на стекле «ручное управление»….
… безногий сапожник…старик из города, по телевизору показали, изобретатель протезов…
… доктор, с укорочением, в супинаторном ботинке… а врач хороший, душевно к людям…
И, естественно, к фронтовикам особое внимание.
Дорога
Запрягала Груньку немолодая солдатка, из местных, Пелагея. Сани ещё не успели наладить, некому, ездили на колёсах. Пелагея кинула в телегу сенца, просила шибко не гнать, поберегли бы Груньку-то.
– Смёрзнете, однако, – сожалеюще сказала Пелагея, Из тёплого у них только стёганки да ватные штаны, у женщины муфта, сама хоть в платке, бухгалтер в кепке, затискал руки в карманы. Пелагея стянула с себя телогрейку, бросила Талочке. – И не отнекивайся, у меня друга, запасна найдётся. – Ещё-то кто с вами?
– Директор Жабреев.
– Погодьте, пока он собиратся. Я счас.
Сходила, принесла от сторожей три потёртые армейские ушанки, овчинное покрывало, да три пары верхонок.
– Бери, милочка. Ехать долго. Напрямки сорок кил`oметров, ежели по тракту, а лесом махнёте – считают двадцать восемь. Грунька у нас старенька, ейный шаг недлинный.
Веденеев уходил торопить Никифора. Подумал о ерунде: Жабреев, техник, с образованием, подсчитывает расстояние по-старому вёрстами, а малограмотная Пелагея говорит правильно: километры.
Прибежал Жабреев.
– Возьмём Пелагею?
– Я бы тебя не взял, – огрызнулся на Николая.
– Что так?
– А то сам не знаешь…
Знал, конечно, почему нельзя снимать и брать с собою конюха Пелагею: она, помимо конской тяги (упомянутая Грунька и два других одра), отвечала и за собачий парк, а собаки – сторожи заводские, голодными их не оставишь.
Кроме того, Жабреев уже узнал оба пути – и трактовый, длинный, и другой, наезженный лесом, что покороче.



