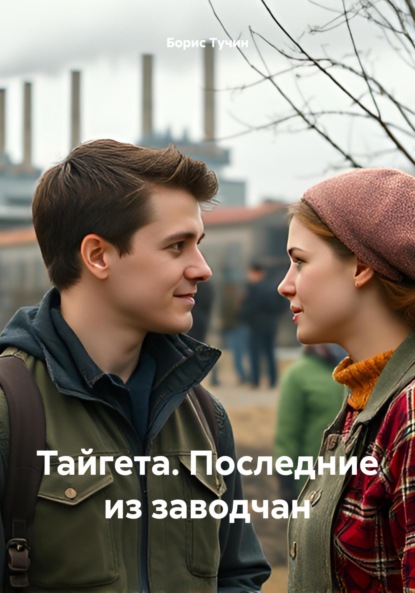
Полная версия:
Тайгета. Последние из заводчан

Борис Тучин
Тайгета. Последние из заводчан
Предисловие
Действие романа разворачивается в середине 70-х годов 20-го века. Коллектив расположенного в одном из малых сибирских городов завода ценой неимоверных усилий добивается создания радиоаппаратуры мирового класса. На этом пути героев книги, энтузиастов, постигают не только удовлетворённость от достигнутого результата, но и горести, разочарования, разные житейские неудачи, за взлётами следуют падения. На глазах у многих совершаются преступления, рушатся длительные связи, наступают недуги и семейные катастрофы. Реальная действительность последних советских десятилетий приходит в противоречие с первоначальными пафосными установками, терпят крах утопические попытки создания «нового человека».
Но люди труда и подвига с честью проходят через все испытания.
– Так-то оно так, но что будет с д`етьми? – со своим неподражаемым одесско-варшавским акцентом сказала автору прочитавшая рукопись конструкторесса Клара Кременчугская, друг семьи автора. И продолжала: – Вот видишь, ты не знаешь!.. А я за моих близняшек в ответе… Так что меня исключи, не упоминай обо мне ни под именем собственным, ни под псевдонимом. Я не хочу быть среди последних. И не буду. Понятно? !. А сам думай: с д`етьми что будет, с д`етьми?..
Автор с пониманием отнёсся к просьбе добрейшей конструкторессы Клары. Упоминаний о ней в книге не будет.
Пролог. Цена зарплаты
Город Чеминдинск, Сибирь. 1974 -1976. Итоги «скверных» посиделок
1.
Встречались будто ненароком, хотя и вроде бы не имея определённого, заранее оговорённого времени, у газетного киоска, у магазинов, во дворе ли, на улице, одним словом, где случалось, но всегда не дальше своих кварталов.
Летом в центральном сквере, у клумбы, на неудобной, без спинки, скамейке всегда раньше всех усаживался кто-нибудь из ихних. Выходи, не ошибёшься, своего застанешь.
Зимой скамейки не чистятся от снега. Потому стояли. Ноги у всех стариковские, больные, всё равно разговаривали стоя, сколько могли выдержать.
Из кошёлок торчали толстые, в цветных нашлёпках, горловины молочных бутылок. Птицам выкрашивался купленный только что свежий хлеб. Высокомерные, драчливые голуби, рядом с воробьиной да синичкиной мелочью гиганты, не подпускали этих чужаков, и бабушка Рыжова говорила, что воробьёв и синичек жальчее, голодными остаются. Раньше хоть лошади были, а теперь машины – жрут не овёс, а бензин, вместо навоза дым, а для птиц что толку-то…
Откровенно говоря, Руфина Рыжова едва ли не чаще других здесь бывала – затем, чтобы уменьшить бестолковое хлопотанье голубей, когда они с шумом, давя и отталкивая самых старых и самых слабых собратьев, сбегаются на высыпанные ею из кулька крупяные зёрна. Иногда с налёту, ничего не разбирая вокруг, безоглядно кидаются прямо на Руфину-кормилицу. Она не сердится. Нашептывает:
– Нате вам, нате, дурашки… смотрите, не передавитесь, жалейте себя, и воробьишек тоже жалейте… Нате вот сушечку, она, хотя и жесткая, зато из белой муки, мелко истолченная, да вам не всё же землю долбить.
Ни с кем особенно Руфина не делится насчет голубиных с воробьями распрей. Мужики же всё равно насчет природы – без понятия. Станут они тебе голубей кормить, держи карман шире…
Однако въедливый Сибилёв кормит. И её всё равно раскалывает:
– А вот и Руфина Нифонтова явилась, не запылилась. Красавица наша писаная, в картине не снятая.
– Ты бы пыл свой поумерил, Сибилёв, – одёргивает Руфина. – Рыжова я, а никакая тебе не Нифонтова. В кино не снималась…
– А почему?
– Да не зовут потому что…
– А птички вот зовут. Да. Крошки, поди, насобирала?
– Перловку, верно, принесла.
– А у меня вот хлеб остаётся, я его и крошу, – поддаётся на её незлобивый тон Сибилёв.
– Надо же наш век достойно доживать, Филимон Митрофанович, – с необидной назидательностью сообщает Руфина. – А из хлеба, например, сухарики делаю. В духовке, тогда они вкусные. Куриный бульон сварю, сухариков накрошу. Лапшу или картошку не кладу. Сухарики… Тонкими плитками хлеб нарезаю. Ржаной обязательно. Не белый… Достойно доживать надо, – заканчивает она, и уже даже и совсем без назидательности.
И Сибилёв насчет кормёжки птиц оставляет её в покое.
Крепенький Вощинин приводил коротконогую, длинненькую собаченцию и отпускал её с поводка, такса побегает, порыщет, да и возвращается к хозяину, потрётся о штанину, приляжет…
Толстяк Абаимов, поперёк себя шире, устанавливал на необъятном колене транзисторный приёмник. Антенна вытягивалась, точно древко с нанизанными, трепещущими на ветру флагами, сотканными из новостей, как из тканей.
– Старики особенно любят слушать новости, – степенно рассуждал Сибилёв. – Второй хлеб нам – информационный. Узнать, что в мире творится, и обсудить с друзьями – вот и время не напрасно проходит. С одной стороны – хроническое безделье, дни пустые, с другой – времени впереди остаётся с гулькин нос, а охота узнать, какой такой урожай из нашего посева выклюнется.
На что Рыжова, осаживая, вносила поправку: мол, у вас, мужиков, потому одна политика на уме, что вы не загружены по дому, в лучшем случае сходите в магазин за хлебом, ещё за чем-нибудь, а женщина – без вечной суеты часа не проживёт, вот и новостей не надо: сама, как новость, завелась с утра, так без остановки и весь божий день на ногах.
Сибилёв на воркотню Рыжовой не обижается, все к ней привыкли.
Не со зла же ворчит, а просто по факту.
Однако ничего из ничего не вырастает: у Сибилёва насчёт политических новостей имеются, помимо абстрактных мотивов, и той же Руфине Рыжовой известные причины личного свойства.
Сибилёв – он всех прощает, но правду-матку режет: морочимся, будто просто так сошлись, наобум Лазаря, а сами – только глаза сомкнём, уже о завтрашних посиделках мысль ворочается.
Женщины сетуют: никак не соберутся навестить гамузом находящегося в доме-интернате Жабреева. Один там, без никого своих, два соседа в комнате, чужие, оба храпят… Сибилёв поправляет: ну, и что, храпят, он тугой на ухо, Жабреев, не слышит, сам, как храпака включит, весь дом-интернат дрожит и вздрагивает.
Женщины: да кто тебе сказал, да врёшь ты всё.
– Я знаю. В командировки ездили, в гостиницах останавливались, о многом переговорили, ни друга друга, ни родной завод никогда не подводили… В гостинице в общем номере народ иной раз сердился, не могли спать из-за его храпа… А ты с ним не спала, – вольничает Сибилёв, – ты не знаешь.
Вощинин живёт со своей Федосьей сорок три года и теперь плечами пожимает насчёт Жабреева: вроде на ногах парень, а чего надумал – в интернат. В общежитие на склоне лет уйти, в комнате с храпунами коротать остатки жизни – нет, чтобы взять старушку, вон их сколько вдовствуют, одинокие, – сидел бы у себя дома, и в ус не дул… Абаимов ближе к Жабрееву стоит: тот и слышать никогда о старушке не хотел – чужой человек, да с её стороны наследники выявятся, заскандалят, наследники всегда выявляются.
А Рыжова знает, что и в доме-интернате семьи заводят, сама в телеке видела, им даже отдельную комнату выделяют.
– В телеке тебе чего только не покажут, – заявляет скептически настроенная Геля Костенкина, – уши развесишь, и готово, лапша прилетела и села.
А Сибилёв, недавно посетивший Жабреева, гнёт своё: теперь-то ему не о чем беспокоиться – здесь он жил в собственном доме, сам прибирался, топил печку, сам пищу варил, и стирал тоже сам – устал, и надоело! Домом-интернатом доволен – на всём готовом: кормят во-время, и готовят хорошо, есть можно, стараются, чтобы старики сытыми были, чистота, врач пожилой, такой же инвалид, осматривает добросовестно, не для близиру, о воде и дровах с углём голова не болит, о саде с огородом так же не нужно заботиться, и через день кино, и всегда телевизор, хоть засмотрись, и библиотека, газеты свежие, радио в каждую палату проведено – чем не жизнь!
С дом-интернатскими соседями в палате у сдержанного Жабреева ровные, обстоятельные отношения. Ещё в прошлом году он приезжал в Чеминдинск проведать своих, заводских, а после того ослаб, ограничивается лишь прогулками в дом-интернатской ограде, и то не во всякий день способен выбраться. Семьдесят девять, и фронт за плечами, и первые сложные годы, как вытаскивали завод, неделями из цехов не выходили, белого света не видели – ничто даром не проходит.
Жабреева навещали, но порознь и крайне редко, главная проблема – собраться, сговориться, кто-то захворает, другие ждут, потом у следующего недуг, вроде бы дремлющий, вдруг обострится. Надо бы выбраться, да сил нет.
2.
Известно, что ездил в дом-интернат и Барановский Сергей Савватеевич, бывший (до Полувеева) заместитель директора по общим вопросам. На пенсию ушёл после семидесяти, а до того выглядел малодоступным, действовал строго по регламенту, лишних шагов избегал, так что к нему старались без крайней нужды не соваться. И неулыбчивый… Не нашенской, словом, породы человек был. Сухарь.
Как Харьковский завод из эвакуации стал выезжать, Барановский задержался, гадали: чего так. Позднее просочилось: неспроста он у нас тут осел, знавал и лучшие времена. Осведомлённый во многом Филимон Сибилёв на ушко Рыжовой нашептал: дескать, он генерал, знаешь, такие звания были в войну для высшего руководства – инженер-генерал, инженер-полковник, – находился под следствием, как-то уцелел, отделался ссылкой, оттого и осторожный, что хвост прищемили…
Барановский навестил Жабреева в доме-интернате, по слухам, с подарочком в виде японского карманного магнитофона.
Сергей Савватеевич на скверных сходбищах не появляется, и претензий по этому поводу к Барановскому нет. Не потому что не наш, а потому что до сих пор живёт на отшибе, далеко, в трёхэтажном доме, в квартале при Старой площадке, а поселился там в самом начале, когда строили сперва бараки, потом руками пленных немцев квартал двухэтажек по трофейным проектам, для высших же начальников эту трёхэтажную хоромину и спроектировали, и отгрохали, вывели, и обозвали метко: одновременно и небоскрёб, и дворянское гнездо.
Теперешний директор Мережников высоко ценит Барановского, многому у него научился. А для того, чтобы оставить в замах, придумал знатному пенсионеру особую должность – что-то насчёт устройства ветеранов. И как не ценить: сама идея создать на оставленных харьковчанами площадях радиозавод, а не, скажем, мастерскую артели по изготовлению огородного инвентаря – лопат и граблей (такое тоже заявлялось) – принадлежала Барановскому.
Да и первоначальная разработка, одобренная министерством, – его.
И некоторые другие идеи Сергея Савватеевича Мережников называл конструктивными. А эта похвала не малого стоит.
Информацию про созданную под бывшего зама должность старики восприняли довольно снисходительно, хотя и с оговоркой: по делам ветеранов, это хорошо, однако завод нас и так не бросает в тяжёлых обстоятельствах, когда надо помочь, есть к кому обратиться: к Полувееву Степану Лукичу, или в партком, профком, либо просто по прежним связям в цехах и отделах.
Немного идеализировали, что вполне допустимо, но имелись основания и для самоутверждения: я попросил (попросила), ко мне отнеслись по-доброму, стало быть, заслужил (заслужила). У завода…
Мережникова в целом одобряют: правильный директор, строгий, спуску никому не даёт, сам вкалывает до упаду, и люди у него крутятся, как заведённые.
На износ…
…а между прочим у того же самого Мережникова, как бы походя, накапливались нужные сведения. Из нескольких источников. Шутил: как у Ленина в работе «Три источника, три составные части марксизма». Редактор городской газеты показал ему раритетную книгу в красной обложке, из серии «История фабрик и заводов», выходившей когда-то под руководством еще Максима Горького – о традициях Трёхгорной мануфактуры в Москве.
Барановский подобрал список заводов, и ныне уже сочиняющих про себя то же самое. Сказал: надо не отставать. На что Мережников, без раздумий, бросил излюбленное:
– Сделаем.
Однажды по недоступным для большинства неначальственного люда каналам поступили воспоминания Генри Форда о том, как этот знаменитый американец на пустом месте создавал свою империю автомобилей. Мережников самиздатскую книгу проштудировал на десять рядов, собрал по ней совещание узкого состава под девизом: мало ли, что он капиталист, Генри Форд, а такое дело раскрутил, что и коммунисту не каждому по плечу, начинал же, как и мы, – в сараях.
С того закрытого совещания, конечно, была утечка, не кто иной, как Филимон Сибилёв заимел отрывок из стенограммы, перепечатку, пятый экземпляр, слепой, но разобрать удается, Сибилёв разбирал и докладывал в сквере, и в широких пенсионерских кругах не могли пройти мимо записанных кем-то из участников цитат.
…а почему Сибилёв так увлёкся политикой, дышать без неё не может? Да проще простого. У него любимый племянник вместе с женой второй год в Африке, работают врачами по контракту. В какой стране? Название трудно запоминается, одно хорошо – столица и страна идут под одинаковым именем.
Или под не совсем одним и тем же, но всё равно схожим – запомнить тоже у пенсионера не всегда получится.
Ну, вот: своя кровь так далеко утекает – аж в Африку. А там не спокойно: освобождаются от колониальной зависимости, и всё воюют, воюют, власть никак поделить не могут. От тамошних пертурбаций судьба приезжих белых людей напрямую зависит.
Нам тут издалека представляется: африканцы все приличные, правители вроде бы интеллигентные, при галстуках и в европейских костюмах, дело в том, что им, видимо, не жарко, они, темнокожие, привычны к своему климату, как мы к нашему, где живём…
– Одним словом, – разъясняет Сибилёв, – телевизор их с лучшей стороны кажет, некоторые даже и с марксистской ориентацией, только я не спешу доверять всем и каждому. Взять на поверку, так дикости хватает, человек исчезнет, и следа не отыщешь, да и кто бы искал в пустыне, среди песков…
Вот Сибилёв Филимон Митрофанович и заботится.
…иные подробности у нас в последних известиях не рассказывали, а, выйдя ночью на потаенное, Филимон Митрофанович кое-что, очень немного, но разбирал. Со временем одно усвоенное за другое цепляется, выстраивается в сплошные линии, так что ждёшь продолжения, кругозор-то и раширяется…
Наша аппаратура – она же отличная. У других, возможно, хуже слышно. А наша, чеэрзовская* позволяет.
-–
* Относящаяся к Чеминдинскому радиозаводу (ЧРЗ).
Не все волны у нас на изделии являются открытыми, за просто так на волю не выводятся, но наши кулибины разбираются во всём, и в неоткрытых волнах тоже. Однако об этом молчок, язык за зубами…
Вообще о потаённых ночных занятиях Филимона Митрофановича вслух не говорится. Штора у него плотная, на ночь всегда задёрнута, стены в кирпичном доме для негромких звуков почти не прозрачные.
Иные знатоки бы удивились, откуда у, казалось бы, совсем не блатного пенсионера мог появиться экземпляр приемника из партии, строго ограниченной по тиражу, предназначенной кроме прочего и для того, чтобы рыскать в том диапазоне, что позволяет слушать запретное.
На массового потребителя такая привилегия, естественно, не распространяется.
3.
-… И потом, – комментировал Мережников поучительное сочинение автомобильного короля из Соединенных Штатов, – хорошо, у него бизнес из ума не выходит, у нас же функционирует расширенное социалистическое производство. Есть разница? Да, безусловно. Однако и там, и здесь главное – произвести продукт наилучшего качества, разработать конкурентоспособную новинку, изготовить ее, внедрить в производство и так далее, по списку. Правильно? Опять-таки – да, безусловно!
Генри Форд считает бизнес творческим процессом, противоположным по назначению машине или механизму. Выглядит это следующим образом: где-то возникает сообщество людей, объединенных одной идеей, они собираются вместе, чтобы совместно вести дело. Каждый знает свою часть работы, и потому им недосуг загружать друг друга излишними бумажками. У них просто нет времени на пересылку друг другу информации по переписке. Надо, чтобы люди добросовестно выполняли то, что им поручено, и тратили здесь всё свое время без остатка.
У Форда принцип: один отдел не должен вникать в проблемы соседа, и знать о том, что делается за стенкой, тоже не к чему. И в чем-то он прав.
Не станем далеко ходить: у нас на заводе тоже бюрократизма хватает. Но при подобном подходе – как же велика должна быть роль координаторов производства!.. Многие возразят: у нас такое непредставимо. Где грань?
А если хорошо подумать?
Отлично. Думаем, и идем дальше.
Следующий вопрос, не менее существенный по важности, – о дисциплине. Будем откровенны, вопрос стоит прямо: как нам изжить пьянку, в том числе на рабочем месте? А надо уяснить одну простую истину. Форд констатирует, что человек приходит на работу не для того, чтобы веселиться. Для этого есть время после работы. Он должен качественно выполнить свои обязанности, иметь приличный заработок, а свободное время проводить, как ему заблагорассудится. Веселитесь, пожалуйста, но не на работе. Просто? Да, но опять же: как добиться постоянной предельной загрузки – в течение всего месячного производственного цикла. Изжить штурмовщину, что называется. Удастся?
Начальник десятого цеха Карташов: – Риторический вопрос! Комплектующие получаем из десятков адресов. Рассогласование неизбежно. Срывы поставок – реальность, и никуда от неё не денешься. И, если люди в начале месяца балду пинают, а ближе к концу периода завод выезжает на сверхурочных, то и не удивительно, что бутылки из цеха выносят, когда охапками, а когда мешками,.
Начальник стройцеха Ворожейкин: – У Форда замкнутый цикл, а у нас – пляски вокруг плана.
Мережников: – Не стану комментировать. Когда-то и мы избавимся от штурмовщины.
Но с пьянством будем продолжать бороться по-настоящему. По-нашему, по-русски: сделал дело, гуляй смело. Нашим товарищам, не буду перечислять поименно, сами знают, – не в бровь, а в глаз. Начальник должен подавать трезвый пример, а некоторые позволяют себе кирнуть на рабочем месте, мы же с вами все на виду, и забывать об этом негоже. Такое поведение недопустимо…
Начальник стройцеха Ворожейкин: – Пьянству – бой!
Мережников: – Не надо юродствовать. Замеченных с запашком в рабочее время на территории завода вразумлять буду рублём, не взирая на лица. Никакие обиды не принимаются.
– И наконец последняя истина состоит из двух частей. С первой частью мы с вами в существующих исторических условиях не можем согласиться. Генри Форд искренне считает, что отсутствие твердой субординации избавляет и от искусственных проволочек, и от превышения служебных полномочий начальниками разного уровня. На мой взгляд, это теоретически возможно, но всё равно, лишь при условии, если все нити держит в руках один человек, скажем, сам владелец или хозяин предприятия, имея для этого грамотно структурированную группу управленцев, позволяющую постоянно держать под наблюдением любое проявление деятельности трудового коллектива.
Знаете, я всё же не Генри Форд, а обычный директор советского завода, то есть работник на должности, и поэтому от грамотно выстроенной субординации никогда не уходил и уходить не собираюсь. Я – за делегирование полномочий от вышестоящего к стоящему ниже и одновременно за эффективный контроль во всей системе. Но, повторяю, и бюрократизм, когда за бумажкой не видно человека живого, расцениваю, как немалое зло. Однако преодолимое.
Голоса из зала: – Не при нашей жизни!
– Внуки, быть может, и доживут.
– Вернитесь к бумажной волоките!
Мережников: – Насчет бюрократизма. Эмоционально целиком согласен с Маяковским: Я волком бы выгрыз бюрократизм… Но по делу…
Начальник стройцеха Ворожейкин (нелишне заметить: родственник Филимона Сибилёва): – Маяковского давно нет, а бюрократизм каким был, таким и остаётся. Если не подрос за эти годы.
Мережников: – Партия призывает нас изживать бюрократизм, как явление. Мы все здесь – подавляющее большинство – коммунисты. Полагаю, дальше говорить нет надобности. Люди взрослые. Понимаете, что к чему…
Но тут, братцы мои, имеется и другая сторона. О ней тоже в числе прочего напоминает наш американец. Щепетильная вещь: оказывается, у него любой рабочий может через голову мастера обратиться непосредственно к директору и получить адекватный ответ.
Причем, если ситуация разрешается не в пользу мастера, тот и не подумает обижаться. Ибо знает, что при несправедливости, допущенной к подчиненному, может начинать подумывать о приискании другой работы. А собака-то знаете, где зарыта? Она – в соразмерности. Рабочему при такой постановке дела вовсе не к чему затевать тяжбы с начальством. У нас же рабочий редко обращается просто потому, что до бюрократа не добраться, не достучаться…
Начальник десятого цеха Карташов: - Как пешком до Китая…
Главный инженер Чистов: - Верно. Иной раз до нас добраться, как до Луны пешком…
(Тут, пояснял Сибилёв – со слов Ворожейкина, должно быть, – немного посмеялись. Разрядка на любом совещании полезна – самокритика, вроде того, что…)
А дальше, как передавали, Мережников сказал одну почти крамольную вещь.
– Я обеими руками за это, здесь любой коммунист подпишется. Но вот насчёт среднего комсостава моего согласия нет. У Форда, возможно, за воротами стоят толпы людей, готовых согласиться на любые условия. А у нас при социализме безработица отсутствует, мы за персонал боремся, хорошие мастера составляют наш золотой фонд, разбрасываться кадрами нам, коммунистам, не свойственно. Увольнять буду, но только за серьёзные провинности…
На том и порешили. А вывод Мережников сделал совершенно в духе принципов первого в мире государства рабочих и крестьян: у нас героическая история, и эта история учит, история вдохновляет, люди активнее работают, если, кроме материальных, получают и моральные стимулы.
Участники узкого совещания в последующем немало пообсуждали демонстративную приверженность директора к образцам мирового опыта. И приходили к выводу, что Мережников привёл Генри Форда себе в союзники, дабы подтвердить свои собственные позиции. Очевидно, нынче более не считается зазорным изучать зарубежную литературу по проблемам организации и управления промышленными предприятиями.
Не исключено, что нам, производственникам, директором будут ещё представляться подобные сочинения.
К чужому опыту нужно прислушиваться, кто бы спорил. Ленин призывал: учиться, учиться и учиться надлежащим образом. Однако мы все практики. Это – главное. У директора время для чтения книг находится. У нас – нет.
Некоторых особенно задело антибюрократическое рассуждение шефа. На лестничной клетке в заводоуправлении, возле урны с грузом окурков, дымили, спорили.
– У Форда оно, конечно, демократию разводить – милое дело: дескать, любой работяга через голову мастера может обратиться к начальнику цеха и к любому другому руководителю, вплоть до самого директора, и никто не обидится. А мы-то знаем: один сутяга заведётся, так целый завод на уши поставит, никто не обрадуется, затаскают же, и работать некогда… А коли появятся два сутяги? Да объединятся и возьмут за горло? Ну, тогда хоть святых выноси!..
Нет, мы уж лучше по старинке – дедка за репку, бабка за дедку, и так далее, до той мышки, которая и вытащила пресловутую репку.
Но кто-то и подосадовал:
– Я начальник – ты дурак. Ты начальник – я дурак. Безнадёга, одним словом…
У каждого свой пример борьбы с сутягами, иные воспоминания совсем свежие, не остывшие. Но, чтобы поделиться с товарищами опытом обуздания баламутов – правокачей и правдоискателей,– времени уже не оставалось.
Торопливо досасывали бычки, сбрасывали в урну, и – дальше, по местам, работа не Алитет, в горы не уйдёт.
4.
Однажды хозяин области товарищ Черносвит в сопровождении обкомовского секретаря по идеологии товарища Верхоленского и с завами соответствующих отделов областного комитета партии пожелал проконтролировать готовность обкомовских дач к приёму дружественной партийно-правительственной делегации из прогрессивной страны третьего мира, выбравшей социалистический путь развития.
По существующему ритуалу, рекогносцировка завершалась товарищеским ужином. В столовой обкома – накрахмаленные скатерти, накрахмаленные же белоснежные салфетки, втиснутые пачками в специальные подставки, дорогой фарфоровый сервиз (на стенках предметов красивые пейзажи с танцующими пейзанами и пейзанками в малиновых панталончиках), хрустальные бокалы и рюмки, ледяная финская водка и тёплый армянский коньячок о пяти звездусеньках, дефицитные закуски, включая бутерброды с икрой двух красок, красной и черной, прочая отборнейшая снедь, а также неслышно скользящие по паркету, красивые и нарядные, сноров`истые барышни – официантки, ради репетиции званого ужина умыкнутые из ресторана Центральный.



