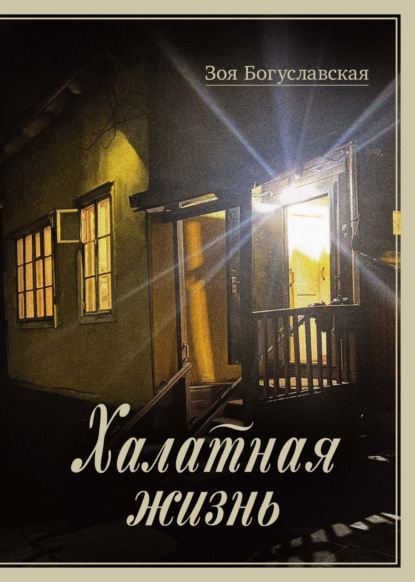
Полная версия:
Халатная жизнь
Потом на Таганке были «Павшие и живые» – одно из самых сокровенно-исповедальных сочинений режиссера, на стихи фронтовых поэтов, ныне живущих и тех, что не вернулись с фронта‚ – Всеволода Багрицкого, Павла Когана, Михаила Кульчицкого, Николая Майорова. Затем – «Пугачев» Есенина. «Пропустите, пропустите меня к нему… Я хочу видеть этого человека!» – кричал Высоцкий на разрыв аорты.
Второй этап жизни Таганки, по замыслу Любимова, определяли инсценировки современной прозы – Федора Абрамова, Бориса Можаева, Юрия Трифонова, поднимающие острейшие проблемы жизни. «Дом» по Ф. Абрамову, «Живой» Б. Можаева, почти все написанное Ю. Трифоновым и, как высший аккорд, булгаковский «Мастер и Маргарита» взрывали зал, превращали сцену в трибуну. Все, что звучало шепотом на кухнях, произносилось прилюдно, открыто. Имена Юрия Любимова, а вскоре и художника Давида Боровского становятся в ряд мировых величин современного театра.
А мы, вчерашние студенты ГИТИСа, что поклонялись Улановой, Хмелеву, Плисецкой, Бабановой, Чебукиани или Андровской, ощущаем «Современник» и Таганку своими единомышленниками. Сами мы начинаем печататься в толстых литературных журналах, нас читают. Я попадаю в самые известные компании, вожу дружбу с кумирами: Булатом, Володей Высоцким, Олегами – Ефремовым и Табаковым, Микаэлом Таривердиевым, Леонидом Зориным, Михаилом Ульяновым, Лилей Толмачевой, Игорем Квашой, Валерием Золотухиным, Вениамином Смеховым, я – участница посиделок после громких литвечеров, головокружительных балетов, рискованных постановок и концертов. В нашей квартире на Котельнической Высоцкий будет петь свои новые песни, которые записывает мой пятнадцатилетний сын Леонид, шумные сборища кончаются далеко за полночь, а когда мы празднуем Новый год, то и утром.
Наступает пора расцвета клубной жизни. Песни Галича, Высоцкого, Булата, Алешковского из подполья перемещаются в ЦДЛ, Дом актера и Дом кино. Именно здесь теперь регулярные вечера поэзии, чтение новых рассказов, пьес. Часов в шесть-семь мы идем в ЦДЛ или Дом актера, не сомневаясь, что без всякой договоренности там уже найдется десяток знакомых, а клубная жизнь уравняет нас, начинающих, в правах со знаменитостями. «Гамбургский счет» ведется только в творчестве, быт общий: ты гений, я гений, что делить? Места хватит всем.
Почти невероятным сегодня кажется, что в те годы вовсе не существовало публично-компроматной агрессии. Грязные разоблачения осуждались, драки, конфликты возникали на почве сплетен, ревности, без особых поводов. «И тот, кто раньше с нею был, он эту кашу заварил вполне серьезно, он был не пьяный…» Чаще рукоприкладством выясняли отношения, сильно напившись, перемирие обычно наступало легко, через день «противники» могли мирно сидеть за общим столиком, и кто-то платил за двоих.
И еще. В эти годы небывало возрастает роль общественного мнения. Когда начинаются громкие процессы над писателями, то нам кажется, что наши возмущенные письма в защиту Андрея Синявского, Юлия Даниэля, Иосифа Бродского остановят репрессии и гонения… Этим иллюзиям тоже придет конец.
Но вернемся на «Мосфильм». Теперь и здесь климат резко меняется, усиливается давление на руководство, даже картины Алова и Наумова, несмотря на данный им определенный карт-бланш, подвергаются все более жесткой цензуре. Сквозь колючую проволоку продираются «Мир входящему» по сценарию Леонида Зорина и «Бег» по Михаилу Булгакову.
Ко времени съемок фильма «Мир входящему» Леонид Зорин был уже очень знаменит. Он был десятилетним мальчиком, когда его талант отметил не кто иной, как Максим Горький. В 25 лет его первую пьесу поставил Малый театр! Мы тесно дружили еще со времен ГИТИСа, я была свидетелем и взлета его редкого таланта, и трагических сломов судьбы.
После успеха первых пьес Зорин поверил, что ему позволено больше, чем другим, и с размаху сочинил комедию «Гости». Он впервые в советской литературе жестко обозначил водораздел между творцами и хозяевами жизни – циничными и беспощадными. Попадание было точным – власти предержащие в «гостях» узнавали себя. Скандал случился невиданный. Со времен постановления ЦК КПСС о Зощенко и Ахматовой (1946 года), решений о пьесах Леонида Леонова «Метель» и «Волк» – такой уничтожающей критики, разгрома и травли писателя не было. Зорина довели до нервного срыва, у него началось внутреннее кровотечение – попал в больницу. Мы по очереди навещали его.
Наверно, творческая энергетика, неостановимо влекшая его к письменному столу, да безмерная любовь к сыну Андрею (сейчас он лингвист мирового уровня) спасли писателя от тяжелой депрессии. Нынешние поколения хорошо знают знаменитый фильм «Покровские ворота», снятый Михаилом Козаковым по пьесе Леонида Зорина.
Фильмы – как блины, их надо есть горячими. Даже киноклассика через пять-шесть лет не всегда сохраняет яркость вызова, силу воздействия на современников. К примеру, в картине Марлена Хуциева «Застава Ильича» (вышел на экраны в 1965 году под названием «Мне двадцать лет») центром и кульминацией был документально зафиксированный поэтический вечер в Политехническом музее. «Политехнический – моя Россия!» – писал Андрей Вознесенский.
В Политехнический!В Политехнический!По снегу фары шипят яичницей.Милиционеры свистят панически.Кому там хнычется?!В Политехнический!..Фильм Хуциева запечатлел, как читают свои стихи молодежи – в основном молодежи – Евгений Евтушенко, Андрей Вознесенский, Римма Казакова, Роберт Рождественский, Михаил Светлов, Белла Ахмадулина, Булат Окуджава‚ Борис Слуцкий, Григорий Поженян… Фильм отчетливо обозначил для чиновников опасность прямого воздействия подобных вечеров на сознание советской молодежи. Вскоре картину, в которой не было ни грамма политики, запретили – на 20 лет. Но даже после этой долгой паузы ее выпустили с изъятиями и сокращениями, сильно изуродовавшими замысел режиссера. И, увы, показанная в другую эпоху, эта картина, как и многие другие, уже не имела того шумного резонанса, который сопутствовал их закрытым просмотрам в 60-х.
Появился и новый жанр – звучащая поэзия. Вечера поэзии в «Лужниках», которые снимал и показывал на ТВ Ионас Мисявичюс, стали для мировых СМИ точкой отсчета непонятного Западу нового явления культуры – публичного чтения стихов одного автора перед тысячной аудиторией. Вскоре поэтов, подобно звездам-исполнителям, будут приглашать во Францию и Америку, Италию и Мексику, поэтические фестивали, как русские сапоги и «Калинка», войдут в моду. Но началось-то все с запечатленного в фильме Хуциева вечера в Политехническом.
Сегодня почти неправдоподобно-абсурдными кажутся претензии, отбросившие показ некоторых фильмов на десятилетия.
Вот как вспоминает о том времени и режиссере картины выдающийся актер Станислав Любшин, сыгравший одну из главных ролей в фильме Марлена Хуциева:
«Это уникальный человек и удивительный художник. Что он пережил с „Заставой Ильича“! Газеты про него писали такие гадости: мы не видели фильм, но он антисоветский. Картина лежала на полке, и все то, что Марлен открыл – настроенческое, чеховское, – пошло гулять по другим фильмам.
Когда показывают хронику тех лет, я вижу, что все это из нашего фильма. Художественная картина стала документом времени.
Когда показ „Заставы Ильича“ закончился, я увидел, что режиссер Леонид Луков („Два бойца“, „Большая жизнь“), сидевший за нами, – без орденов и медалей. А ведь они были на его груди перед просмотром. В ресторане, где мы отмечали выход фильма, Марлен поговорил с ним, и Луков почему-то ушел. Мы спрашиваем: „Что случилось?“ Оказывается, Луков сказал: „Марлен, извините, я понял, что всю жизнь врал“. Таким потрясением стал для него наш фильм. А сколько Луков сам страдал! Как Сталин его громил. После вскрытия выяснилось, что у Лукова чуть ли не четыре инфаркта было…
А в истории вокруг „Заставы Ильича“ мы ничего не понимали. Молодые были. Почему все хвалили и вдруг начали ругать? Причем одни и те же люди.
Очень известный режиссер сказал: „Марлен, посмотри, каких ты подонков показал. Почему они на Красной площади перед Мавзолеем танцуют и кривляются?“ Все говорилось под стенограмму, которая шла потом в ЦК. Такое началось! Обнаружили идеологические ошибки, приезжали одна за другой комиссии. Мы ходили на все обсуждения. Я лично хотел узнать, что плохого мы сделали.
Прошло открытое партийное собрание. Вся киностудия Горького должна была осудить фильм. Григорий Чухрай записался семнадцатым на выступление. Первым вышел режиссер Андриевский, сказал, что запуск такого сценария – это ошибка студии, куда только партия смотрела, это антисоветский фильм.
Мы стоим с Колей Губенко и ничего не понимаем. Чухрай не выдержал, выскочил без очереди и произнес: „Как вы смеете так говорить? Мою картину «Баллада о солдате» тоже называли антисоветской. Меня обвиняли в том, что показал солдата, а не генерала. Как это так? Зачем солдат отдал мыло? Он что же, не будет неделю мыться? Наша армия, значит, вшивая?“ Своей речью Чухрай сломал ход собрания. Больше никто не выступал».
Казалось, что могло не устроить начальство в картине «Мир входящему»? Конец войны, триумфально освобожденный Красной армией поверженный город. Однако наряду с привычными атрибутами победоносного финала в ленте Алова – Наумова отчетливо прозвучала тема разрушения основ жизни любой войной. Мы увидели трагические следы разгрома и запустения, полуживые магистрали и переулки вчера еще мощного государства Германия. Подробности, запечатленные авторами, застревали в памяти гораздо глубже, чем сюжет. Бредущие по пустому городу двое победителей: истощенный солдат, волочащий раненого командира Ямщикова…
Одиночество этой пары среди разбросанных по мостовой манекенов в разодранных модных платьях и висящих бюстгальтерах, опрокинутая детская коляска, раздавленная танком, летящие по асфальту страницы чьих-то книг, рукописей, гонимая ветром утварь, обои – вызывали острую стыдливую жалость и к победителям, и к поверженным. Все это бытовое, домашнее и глубоко связанное с тысячелетним понятием добра, своего дома‚ катастрофически не соединялось с представлением о той побежденной стране, которую они абсолютно не знали, но должны были ненавидеть, потому что ею правил фашизм. Бедствие людей, крах их уклада жизни омрачали ликование вошедших в город победителей. Настрой фильма Алова и Наумова резко контрастировал с оптимизмом, эйфорией тогдашних военных киноэпопей, он будоражил совесть, возвращая к мыслям о тотальной катастрофе уничтожения самой жизни идеологией насилия, о цене, заплаченной за победу, о неисчислимых бедах, которые не закончатся после завершения войны. «Ах, война, что ты сделала, подлая…»
Увы, одной из самых запретных тем 50–70-х станет видение войны, осмысление итогов войны рядовым солдатом, семьей, потерявшей кормильца. И в Россию, хотя и намного позже, придут проблемы «потерянного поколения» – поколения Первой мировой войны.
После выхода фильма «Мир входящему» Лев Аннинский заметил, что обыденные реалии здесь окружены совершенно непривычным и нереальным антуражем. «Какой неистовый, сверхнапряженный воздух режиссуры! – писал он. – Не здесь ли разгадка странной, обманчивой „ординарности“ этой ленты? Уникальное состояние, владеющее Аловым и Наумовым, по обыкновению‚ вселяется в традиционные прочные рамки, а типичные фигуры шофера, солдат и офицеров выдают… безуминку. Критики пытались оценить происходящее со здраво-реальной точки зрения, но это было невозможно».
Как же случилось, что столь негативное отношение властей и чиновников к картине «Мир входящему» не помешало руководству «Мосфильма» предложить его создателям возглавить новое объединение? Владимир Наумов в книге «В кадре», написанной совместно с актрисой Натальей Белохвостиковой, его женой, пишет, что этим они обязаны самому времени:
«Время! Наступило другое время. „Все смешалось в доме Облонских“. Процессы происходили странные, как будто необъяснимые… „Винтики“ вдруг заметили, что они люди. В период оттепели начали пробуждаться от спячки человеческие характеры, начали действовать, сталкиваться противоборствующие силы, возникали странные, неоднозначные отношения, принимались решения, которые порой невозможно было логически объяснить. Даже у высших руководителей проклевывались завиральные мысли, идеи. Этот разрушительный микроб стал проникать и в их души. Тот же Хрущев, который обзывал „пидорасами“ художников и покрыл себя позором во время знаменитых встреч с интеллигенцией и последовавшими репрессиями, в то же время позволил напечатать повесть Александра Солженицына „Один день Ивана Денисовича“».
Но сегодня мне хочется ответить и на другой вопрос. Зачем надо было режиссерам такого таланта и масштаба взваливать на себя неблагодарную ношу руководства? Ведь обеспечивать новую структуру организационно значило не столько творческую работу с одаренными людьми, но дикое количество текучки, бюрократических согласований, вызовы «на ковер» по первому окрику начальства, ежедневное противостояние официозу.
У самого Наумова есть объяснение – для тех лет типичное. У нас всех была иллюзия, что мы можем поменять климат в искусстве, давая дорогу непризнанным талантам, опальным художникам. Вера, убежденность, что в наших силах обновить кинематограф, сделать его более широким и свободным, заставляла каждого из нас бескорыстно и безвозмездно участвовать в общественной жизни, входить в новые структуры управления творческими союзами.
На этой убежденности: «все, что не запрещено, – разрешено» и родилась у Алова и Наумова идея экранизации «Бега» Михаила Булгакова. После мучений с «Миром входящему», уже предвидя все предстоящие мытарства, они шли на риск, готовясь отстаивать свой замысел до последнего.
В те годы молчание вокруг творчества Михаила Булгакова, самого сложного и блистательного (наряду с Андреем Платоновым) прозаика середины 30-х годов‚ было тотальным. После триумфального успеха у зрителей в 1926 году «Дни Турбиных» шли на сцене всего три года. В 1929 году пресса обвинила Булгакова и театр в идеализации и пропаганде Белого движения, спектакль сняли с репертуара. Но еще через три года, в 1932-м, неожиданно вернули – по указанию самого Сталина. Он писал: «Основное впечатление, остающееся у зрителя от этой пьесы, есть впечатление, благоприятное для большевиков: „Если даже такие люди, как Турбины, вынуждены сложить оружие и покориться воле народа, признав свое дело окончательно проигранным, – значит, большевики непобедимы, с ними, большевиками, ничего не поделаешь“, „Дни Турбиных“ есть демонстрация всесокрушающей силы большевизма».
Спектакль шел на сцене до 1941 года. Затем имя и творчество Михаила Булгакова попали под полный запрет. Десятилетия спустя, когда Алов и Наумов замыслили сделать фильм по «Бегу», они натолкнулись на сопротивление чиновников всех уровней. Константин Симонов, на пике славы вхожий «в верха», пытался сделать хоть что-то для памяти Булгакова. Он дружил с его вдовой Еленой Сергеевной и советовал ей начать хотя бы с попытки публикации «Театрального романа». О возвращении на сцену «Дней Турбиных» с политическим ярлыком «оправдание белогвардейщины» речь не могла идти, а об экранизациях и подавно. Даже студенческий спектакль по Булгакову, поставленный актрисой Софьей Пилявской в училище МХАТа, был уничтожен после двух показов.
И все же невероятное свершилось, Алову и Наумову удалось снять и показать «Бег». Думаю, существенную роль сыграл здесь подбор актеров, каждый из которых имел влиятельный круг почитателей и громадный вес в общественном сознании. А для Елены Сергеевны регулярные встречи с любимыми режиссерами «Бега» были в те дни, быть может, единственной соломинкой, поддерживающей ее интерес к жизни, дававшей ей силы для борьбы за наследие Булгакова.
Картина «Бег», бесспорно, стала событием. Ее критиковали за расплывчатую композицию, подлавливали на исторических неточностях, но это тонуло в хоре голосов, восторженно принявших ленту, в которой было столько актерских шедевров – Михаил Ульянов, Евгений Евстигнеев, Владислав Дворжецкий. Думаю, чудо выхода картины на экран, кроме актерского ансамбля, свершилось из-за темы обличения самого понятия «эмиграция». Власти полагали, что зритель осознает гибельность побега, превращающего эмигранта в отщепенца и изгоя. Смотрите, мол, вот они – вчерашние властители жизни, герои, теперь растоптанные, оказавшиеся на самом дне общества. Каждый из них, прозябающих в нищете, сломленных унижением, превращен в отбросы.
Ленту «Бег» миновала участь другой работы Алова и Наумова – «Скверного анекдота» по Достоевскому, запрещенного к показу на 20 лет.
«Анекдот», быть может лучшее создание Алова и Наумова, вышел смехотворным тиражом к зрителю уже в 80-е годы и не вызвал большого резонанса, лишь творческая интеллигенция высоко оценила филигранное мастерство режиссеров, силу проникновения их в «подполье души» русской. Увы, Александр Алов уже не узнал об успехе своей картины – он скончается, не дожив до 60 лет.
Смерть Алова, лидера, генератора идей в тандеме с Наумовым, стала для нас катастрофой, она надолго выбила объединение из творческой формы. И до сего дня Сашу вспоминают как художника безоглядной отваги, но в то же время человека негромкого, предпочитавшего больше молчать и делать. Насколько на виду был Наумов, яркий и артистичный, настолько незаметен был Алов. Он любил уходить в тень, разыгрывая стратегию самых дерзких замыслов, порой проводя их только через Наумова, а тот акробатически, виртуозно действовал за двоих в публичном поле.
Пользуясь стойким уважением киносообщества, наши худруки откалывали номера на грани фола. Их широко известные проделки не иссякали в самые драматические моменты жизни киносообщества. Когда Володя Наумов вел диалог с партнером, которого хотел убедить, он был абсолютно неотразим. Он мог спорить до хрипоты, переходить за все рамки дозволенного в озорстве и розыгрышах. По «Мосфильму» гулял рассказ о том, как глава другого объединения, Иван Пырьев, имевший безоговорочное влияние на Алова и Наумова, спровоцировал обоих подкараулить Никиту Хрущева около мосфильмовского туалета и, воспользовавшись моментом, убедить его не объединять Союз кинематографистов с другими творческими союзами. (В свое время Михаил Ромм, их учитель, ревновал обоих к Пырьеву, а потом довольно болезненно отнесся к созданию ими Шестого объединения.)
Пырьев, постановщик лакированных комедий, обладавший редкой харизмой, масштабом замыслов, был сродни юной парочке в их проделках. Он был уверен, что мизансцена в туалете беспроигрышна. Сам мэтр-жизнелюб был хорошо известен как любитель поерничать и посквернословить. Певец колхозного рая в «Кубанских казаках», он был, несомненно, личностью неординарной, он не раз защищал Алова и Наумова от гнева начальства.
Наумов подробно пишет в книге, как после туалетной неудачи Пырьев орал на Алова, употребляя все мыслимые и немыслимые эпитеты, обвиняя, что тот упустил фантастическую возможность пообщаться с вождем, когда тот был равен всем смертным.
Через несколько лет Александр Алов, фронтовик, инвалид, уйдет из жизни, не выдержав ежедневного напряжения, сопровождавшего создание каждой картины, не осуществив и половины предназначенного ему талантом – как многие яркие люди того времени.
Нервы трепали всякому, кто хотел отойти от стереотипа. Тяжело и абсурдно складывалась в объединении судьба дипломной работы вгиковца Элема Климова «Добро пожаловать‚ или Посторонним вход воспрещен». В ней уже угадывался масштаб личности будущего создателя «Агонии», «Иди и смотри».
Фильм «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен» молодого Климова, восхитительно остроумный, безоглядно смелый, вызвал ярость начальства. Картину уродовали нещадно, о списке купюр и замечаний и вспоминать тошно. Стиль веселой ненависти режиссера к молодым бюрократам, воспринимающим подростков как газон, который стригут под линейку, был непереносим для чиновников. Быть может, все бы обошлось без такой жестокой реакции, не будь столь блистательно исполнение роли начальника пионерлагеря Евгением Евстигнеевым.
Трудно проходила и трагикомедия режиссера Алексея Коренева «Урок литературы», снятая на киностудии «Мосфильм» в 1968 году по мотивам рассказа Виктории Токаревой «День без вранья».
Вызвал негодование фильм Михаила Калика по повести Бориса Балтера «До свидания, мальчики». Режиссера прославленной ленты «Человек идет за солнцем», получившей международное признание, критиковали именно за яркость, праздничность красок, за непонятную грусть поэтического стиля. Но к этому я еще вернусь.
* * *Кульминацией конфликта с руководством «Мосфильма», конечно же, стали съемки картины Андрея Тарковского «Андрей Рублев». Сохранилась стенограмма обсуждения сценария, которую через сорок лет извлекли из секретного архива для Андрона Кончаловского – соавтора сценария. Кончаловский принес мне ее в подарок, прочтя в ней мое выступление на решающем этапе приемки, в какой-то мере повлиявшее на спасение фильма. Сегодня уникальная стенограмма – документ времени, который отражает изощренные издевательства, нескончаемые мелкие придирки тех, в чьих руках была судьба фильма, непонимание масштаба и природы таланта Андрея Тарковского.
Каждое новое заседание комиссии (а их было пять-шесть, точно не помню) демонстрировало твердость руководителей нашего объединения и его совета. Некоторые коллеги по-разному воспринимали замечания чиновников, но не было среди нас соглашавшихся на варварское уродование авторского замысла. В то же время противостояние с руководством мешало дальнейшим планам объединения. Только освободившись от обязательств по картине Тарковского, можно было запускать следующие фильмы. Как почти в любом коллективе, наступает момент и у творческого сообщества, когда терпение и энергия иссякают и тот или иной художник уже не хочет платить собственной творческой биографией за несправедливость верхов по отношению к кому-то другому.
Атмосфера сгустилась до критической точки. Мы отчетливо понимали, что сценарий в последнем варианте во что бы то ни стало должен быть принят и запущен в производство. Запустить – значило получить государственное финансирование, иных путей в те времена не существовало. Упорство Шестого объединения сильно напрягало руководителей «Мосфильма», они осознавали, что вовсе замотать картину «Андрей Рублев» им не дадут. Уже поползли слухи о гениальном фильме, запертом в недрах студии; любая, даже частичная огласка происходящего могла вызвать протесты, увеличить число сторонников фильма, приоткрывающего пласт национального бытия Руси.
Судьбоносный день наступил 16 января 1963 года, когда пятый или шестой раз состоялась читка нового варианта сценария – при полном составе художественного совета, членов главной редакции «Мосфильма» и экспертной комиссии. Впоследствии я не смогла сосчитать количество рабочих просмотров уже осуществленного фильма, в которых мне довелось участвовать, изъятий из картины текста, целых эпизодов. Думаю, что видела фильм 13–14 раз.
Обстановка с самого начала было настороженно-воинственной. Сам текст, то, как он читался Андроном Кончаловским, создавал ощущение редкостной значительности, некоего чуда, вызывая острое желание чуть ли не аплодировать.
Каждый из нас понимал, что Тарковский на грани нервного срыва и дальше так продолжаться не может, дальнейшие претензии означали бы неприкрытую травлю. Председательствовал в тот раз Юрий Бондарев, литературный глава объединения. Для нас, в начале 60-х, это был человек, прошедший войну, автор смелых, по тому времени, военных повестей, что окружало его имя и поведение неким хемингуэевским ореолом. Его жена Валя часто приглашала нас в дом выпить и закусить разносолами собственного изготовления. Но и в застольях он редко говорил о фронтовых впечатлениях. Бондарев вел заседание мягко, был терпим, заложенная в нем и проявившаяся впоследствии идеологическая воинственность не ощущалась вовсе. Он всячески пытался примирить худсовет и чиновников Главного управления, ведя свою линию.
Этап за этапом проходила я, вместе с худсоветом, мучения и издевательства, которые чинились над сценарием и картиной, составившей славу отечественного и мирового кинематографа. «Андрей Рублев» открыл могучий, бескомпромиссный дар Тарковского, дар художника, который не мог и не хотел идти на компромисс с совестью, жить в искусстве по чужим лекалам. Все его картины стали самовыражением творца, который видел жизнь сквозь волшебный фонарь преображения, открывшего зрителю новое кинопространство, доселе не существовавшее.
Конечно, Тарковский освоил созданное великими предшественниками – Эйзенштейном, Феллини, Бунюэлем, Бергманом. Последние фильмы Тарковского‚ «Грехопадение» и «Ностальгия»‚ снятые в Париже и в Швеции, несут на себе печать исповеди, по существу, уже авторского завещания, постижения смысла жизни. В этих фильмах‚ как в двойном реквиеме, художник воспроизводит состояние человека, осознающего приближение и неизбежность конца. Думается, в основу его киноразмышлений легли и многие обстоятельства последних лет терзаний на Родине, в чем-то спровоцировав его столь безвременный уход. Алексей Герман, называя имена режиссеров, недосягаемых для соперничества, признается, что, к примеру, «Сталкера» он снять бы не смог.



