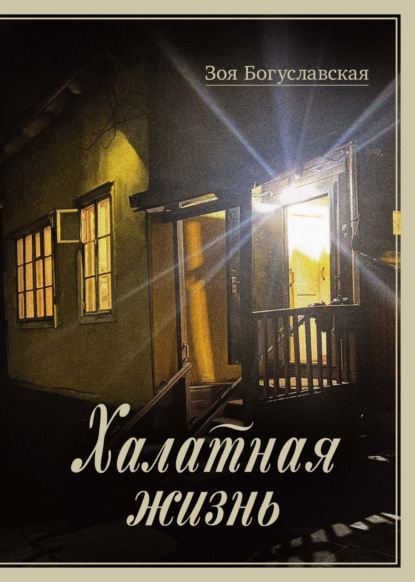
Полная версия:
Халатная жизнь
Очень интересное прочитала последнее интервью Юрия Петровича Любимова. Его спрашивают: «Вы никогда не жалеете ни о чем? Вы сегодня поменяли бы что-то в вашей жизни, если б могли жить заново?» И он ответил для меня потрясающе и очень понятно: «Я никогда бы не тратил столько времени на борцов за свободу, как я потратил за свою жизнь, никогда. Потому что это все абсолютно пустое. Я бы сохранил свою жизнь, свое здоровье на то, к чему я предназначен».
Совершенно правильно, но он не был тогда сегодняшним Любимовым, а сегодня, говоря это, он не был бы тем Любимовым. Лидеров очень мало. И это совсем не многим удается. Вот Любимов – это человек, который входит в компанию, и уже все подстраиваются, что он скажет. Замолкают. Это объяснить нельзя. Он входит‚ и все ждут‚ пока он разденется, скажет что-то, а другой входит – все продолжают болтать свое. Это харизма.
Ефремова очень любили женщины. Почти каждая прима этого театра хотела быть с ним, обожала его и делала все для того, чтобы ситуация сложилась для него наиболее легким образом. И надо сказать, что никто из них его не разлюбил. Они оставались не просто лояльны к нему, он оставался частью их биографии, их жизни, которой они очень дорожили впоследствии. Это были красивые, милые и очень добрые к нему женщины. Это было как у крупных художников.
Эрнст Неизвестный, когда мы видели очередную барышню в его мастерской – а мы бывали там с Андреем Андреевичем очень часто‚ – говорил, что если у него ночью не было женщины, то на другое утро ему нечего делать. Может быть, такая крайность бывала у Пикассо или у Дали. Многим скульпторам, художникам нужна подпитка, допинг в виде красоты, любви к ним. Я думаю, что для Олега Ефремова это была та же страсть, что и театр, но театр – постоянная величина, он никуда не мог от него двинуться и ушел обратно в театр из общественного дурмана, натолкнувшись на многие запреты, цензуру.
Крах иллюзий, крах времени, которое постепенно ожесточалось, на его личности сказались очень сильно. Очень. Любимов уехал и осуществился, он был режиссером на Западе, имел громадный авторитет, не простаивая ни минуты. У Ефремова была одна, но пламенная страсть – Россия, театр. И ему хотелось посадить все эти деревья именно на родной почве. Он хотел, чтобы здесь спектакль гремел. Он пытался устроить так, чтобы и другие люди были в это вовлечены. Он был человеком коллективным, человеком команды, лидером.
У него потрясающие постановки. Как можно было так ставить спектакль, чтобы каждая фраза получалась отточенной, как рапира‚ попадала в цель общественной сообразности. Везде был подтекст. Прочитывалось любое имя, любой контекст‚ как какой-то манифест. Одновременно с этим, конечно, он открывал замечательных драматургов – Александра Володина, Михаила Рощина. Например, «Старый Новый год» Рощина. Искрометная комедия. И актеры были – Вячеслав Невинный, Евгений Евстигнеев, большая плеяда влюбленных в Ефремова актеров, с которыми он ссорился, расставался. Были очень крупные величины, которые покинули Ефремова. Не ужился Олег Борисов, гениальный актер, какие-то были противостояния с Иннокентием Смоктуновским. С женщинами, с актрисами было легче.
Я очень любила Ефремова по-человечески, у него обаяние было несказанное. Мне так интересно с ним было, и я очень долго с ним говорила, иногда часами.
Началось наше сближение с ним, когда однажды кто-то из театра передал ему мою пьесу. Называлась она «Обещание». Это была пьеса о том, что наступает время тотальных обещаний. Герой-изобретатель очень важной вещи долго стучится к министру, тот откладывает, понимает, что надо переменить всю структуру, чтобы это сделать, но обещает. У меня там фраза была, что если раньше человек, который обещает, думал, что он выполнит это обещание, то теперь человек обещает, лишь бы кто-то ушел, и знает, что он этого не будет делать и не выполнит. И вот последняя фраза, когда все иллюзии героя развеяны, он уезжает‚ и ему говорит его возлюбленная: «Что ты опять куда-то едешь, ты видишь, это все бесполезно!» А он отвечает: «Ну я же не могу не думать. Они же не могут мне запретить думать. Мысль – это мое единственное царство свободы здесь».
Так вот этот последний монолог и всю пьесу вдруг возлюбил Ефремов до такой степени, что он примчался в Переделкино к нам и сказал, что берет ее мгновенно. Он сказал: «Это поставит сто театров Советского Союза. Я тебе это гарантирую». Но этим его иллюзиям не дано было сбыться. Он был занят и куда-то уезжал, не мог ставить, поручил это Лилии Толмачевой, которая начала репетицию‚ и мы с ней уже что-то придумывали. Но я очень мало вмешивалась, я никогда собой не интересуюсь до той степени. Я сделала и отдала.
Буквально посреди этих репетиций вошли три человека из Московского горкома КПСС, услышали последний монолог, что царство мысли это есть наша свобода, и сказали, что в Художественном академическом театре это никогда не будет поставлено.
Ефремов был, конечно, огорчен, что спектакля не будет‚ и мы с ним как-то отдалились, потому что, как известно, мы больше всего любим людей, которым мы сделали хорошее. Мы любим тех, в чьих глазах светится благодарность за добро. А здесь получилось плохо. Но это был человек такого темперамента, который вообще долго ни на чем не задерживался. Он был всегда одержим, одержим тем, что он делал в эту минуту.
Я его очень любила за фильм «Три тополя на Плющихе», и об этом фильме была одна из первых моих больших статей. Потрясающий фильм, поставленный Татьяной Лиозновой. И я все время думала: господи, ну пошли ему удачу. И вот уже в поздние времена, лет за семь до его кончины, он поставил «Три сестры» Чехова. Этот спектакль был несказанно талантлив. Все шли, и я в том числе, на премьеру с жутким ощущением: ну как после «Трех сестер» Немировича-Данченко можно иметь успех, поставив этот спектакль. Но у Ефремова был удивительный спектакль, в котором оказалось так много грусти о несостоявшемся, так много несбывшегося. Это был исторический спектакль.
Скажу, что Олег Ефремов был глубоко одинок в последние годы. Но это был человек, который не мог жить без темперамента. Он был лишен действий, он читал очень много, он был очень образованный человек. Хотя на вид такой паренек рабочий, смышленый, хитроватый, с взглядом очень цепким. А он человека, сидящего напротив, пронизывающе узнавал за 15 минут. Он понимал‚ кто перед ним, хороший или плохой, и выбирал‚ как коллекционер‚ тех людей, кто будет идти в команде именно с ним.
И вот последняя наша встреча. Он пришел на банкет, на юбилей Зураба Церетели в ресторан «Метрополь». Я сильно опоздала. Андрей Андреевич уже был внутри. Я вхожу в фойе, в котором слышны отголоски гогочущего зала. Зураб со своей широтой, там человек триста, если не больше. Вся интеллигенция, все очень любили Зураба. Нельзя сказать, что они все любили его искусство, но его любили все. И я иду с каким-то подарком, не знаю, с цветами‚ может, уже не помню. И вижу сидящего Олега Николаевича в фойе. Сгорбившегося. У него были потрясающие руки и пальцы. Если посмотрите его фотографии, то увидите лежащую руку на коленях – это почти как у Вертинского руки. У Вертинского половина эстетики – это были широкие взмахи, пальцы пианиста. У Ефремова также. Его движения были удивительно гармоничны и сообразны. Он сидел, полностью расслабившись, опустил голову, невидящим глазом смотря куда-то. Он не увидел, что я вошла. Но я, увидев эту позу, кинулась к нему. Мне было так больно за него. Еще вчера все бежали за Ефремовым, и вот он сидит одинокий. Тут же полно гостей! Подсядьте к нему!.. Как когда-то после крика Хрущева, Вознесенский шел по лестнице‚ и все делали вид, что смотрят куда-то в другую точку, я громко позвала его – у меня какое-то мгновенное непроизвольное желание помочь. И тут я закричала: «Господи, Олег, что ты здесь делаешь?» Он поднял голову, встал и сказал: «Жду машину». Я говорю: «Ну, дай я с тобой посижу-то». Он говорит: «Ну что ты, тебя там все ждут». Я говорю: «Да я с тобой посижу». Это было очень горькое чувство у меня.
Все прошло, ничего уже не будет. Это говорил человек, который, может быть, уже принял это состояние публичного одиночества, бывшее одним из главных постулатов Станиславского в Художественном театре… А следующий раз, когда я увидела Олега, уже был в том зале, куда вся Москва пришла прощаться с ним. Меня провели поближе к гробу, и мы с Андреем молча стояли.
Я очень люблю его сына Мишу Ефремова. Я с ним не дружу, но он удивительно талантлив. Ефремов со мной в одном из разговоров обсуждал, что Мишу увольняют из театра и требуют от Ефремова определить, что важнее‚ театр или сын. Он мне тогда сказал очень важную вещь: «Ты понимаешь, какая у меня дилемма? Ты понимаешь, они правы, что такой поступок (а он кого-то ударил) нельзя простить, дисциплину нужно вводить в театр. А с другой стороны, я понимаю, что он погибнет, если я его уволю. Погибнет как человек, как актер». И он выпросил какую-то квоту его пребывания и как бы его прощение на какое-то время.
Его простили, оставили на какое-то время. Он один из самых интересных актеров этого поколения, с таким же вспыхивающим‚ ярким темпераментом абсолютной естественности отца.
Олег Ефремов был реформатор в искусстве, в понимании времени и искусства. А Олег Табаков таким был в жизни. Например, он всем актрисам театра, у которых есть дети до 18 лет, платил 10–12 тысяч рублей ежемесячно. Ефремов был гораздо жестче. В нем была одновременно жестокость и беззащитность, как это ни банально звучит. У него были ахиллесовы пяты, он был в чем-то очень уязвим, и это место можно было проткнуть.
Он был уязвим, когда недооценивалось то, чему он посвящает жизнь. Ему могли сказать, что дом его обокрали, он не побежит даже. Но если скажут, что его актера или пьесу запретили, он будет бороться до язв, до крови.
Олег Павлович Табаков был истинно народный актер. С самого начала, от пьес Розова он не был режиссером, он не был широкого склада реформатором, он был директором театра «Современник», потому что команда под руководством Ефремова создавала новый театр «Современник». Само слово «Современник» говорило, что они ориентируются на современные пьесы, он был частью того, что называется актерским становлением этого театра. Его амплитуда актерская для меня не имеет ограничений. В «Амадее» глубоко трагическая роль, у Островского Прибытков в «Последней жертве», и вместе с тем мультяшки, Матроскин, которого узнает по голосу вся страна. Мне рассказывали, что, когда он входил во власть, чтобы что-то потребовать для театра, он говорил голосом Матроскина, и все подписывалось. Он может в течение разговора спокойно сыграть несколько ролей, но так, чтобы это видели. Он может высмеять. У него самое настоящее блистательное актерское дарование.
Табаков как губка. Он переходит, перетекает из одного состояния внутреннего в другое с максимально коротким отрезочком. Вместе с тем говорят и другое, что он в жизни играл. То есть говорил то, что не чувствует, что не любит, или говорил, что хорошо относится к тем, к кому плохо относится. Он очень умеет быть обворожительным для того, кому ему нужно понравиться. То есть он использует вещи, которые наблюдает и в своих ролях. Но я не думаю, чтобы это было в быту, в дружбе или в чем-то еще.
У Олега Табакова был первый самый молодой инфаркт. Чуть ли не в 25 лет. И сейчас, по-моему, уже три позади или четыре. Это нервы, это душа. И такая непроницаемость, и такая комедийная маска, и внешнее безразличие, очень страшное для человеческого организма. Дольше живут люди, которые умеют выплеснуть истерику, крик, темперамент, скандалисты, а людям внутреннего разрыва гораздо тяжелее и хуже.
Кабинет Ефремова был аскетическим, как он сам. В нем висело несколько портретов, может‚ несколько фотографий спектаклей. Сейчас здесь вы видите перенасыщенность сувенирным искусством, памятными дипломами, грамотами. Вся история МХАТа здесь. За моей спиной Немирович, Станиславский, Мейерхольд, Вахтангов – все основоположники, и Ефремов в ролях. Табаков, я думаю, – это собиратель. Вот он в театр сколько приглашает людей. У него несколько площадок. Он хочет всех набрать к себе. И все сделать. Он жизнелюб.
Табаков хочет построить школу для одаренных актеров, где с младенческих лет люди‚ одаренные тем или иным талантом‚ пестовались бы и выкристаллизовывались в гениев. У него школа есть в Бостоне. Табаков очень образованный человек. Он говорит свободно на немецком, на английском. Это я проверяла. Эти два языка подвластны в какой-то мере мне тоже. Он любит словечки‚ в свою речь вставлять немецкие слова, особенно когда иронизирует. Табаков – человек мира. Его личность складывается, на мой взгляд, вот из этих двух вещей. Перевоплощение актерское и эта собирательность. Он поставил ряд спектаклей, но нельзя сказать, что они выдающиеся. Они не составляют пики истории этого театра. Но его деятельность строителя этого театра феноменальна, другого такого нет.
В какой-то мере это было свойственно и Станиславскому, и Немировичу-Данченко. Они же построили все эти студии. Вахтангов, Таиров, Мейерхольд – все они выплыли оттуда.
У Табакова нет ни усадеб, ни яхт, ни «бентли». Он не честолюбив в этом направлении. Он честолюбив в театре, он хочет, чтобы отметили то, что он выстроил после Станиславского, вернул соборность этому искусству. В затылке у него есть какие-то кнопки, связи, которые будут выруливать этот театр, если тут что-нибудь случится. А в театре, да еще на пяти сценах‚ это сложно. Каждую минуту что-то случается. Кто-то хочет покончить с собой, кто-то скандалит… Театр же очень большое‚ как бы сказать, варево, в котором не всегда благовидность торжествует. В театральной среде, вообще в среде искусства, соперничество играет такую важную роль.
Глава 8
Кинематограф: Тарковский, Наумов, Кончаловский и другие
2000-е годы
Как-то году в 1963-м в моей квартире на Ленинградском шоссе, 14 раздался звонок с «Мосфильма»:
– С вами говорит Владимир Наумов. Мы тут придумали объединение «Писателей и киноработников». Не хотите стать членом редсовета?
– Хочу. – На первом же заседании обнаруживаю: за столом – сплошь мужчины, я – единственная женщина…
Сохранилась фотография в американском журнале «Лайф», где запечатлен почти весь творческий состав Шестого объединения: Александр Алов и Владимир Наумов (руководители), Андрей Тарковский, Рустам Ибрагимбеков, Юрий Трифонов, Юрий Бондарев, Елизар Мальцев, Григорий Бакланов, Лазарь Лазарев, где-то между Михаилом Швейцером и Александром Борщаговским поместили и меня.
Попасть на страницы этого знаменитого издания – верх признания даже для американца. Если его имя хотя бы мелькнуло в каком-то материале «Лайфа», это могло повлиять на взлет его карьеры кардинально.
Планы объединения были обширны. С ним сотрудничали самые талантливые люди, имена которых позже станут знаковыми в кинематографе и литературе того времени [15]. Мы разбирали заявки, читали сценарии, отсматривали фрагменты фильмов, оценивая пробы и готовый материал.
Впоследствии история развела по разные стороны баррикад бунтарей-единомышленников, некоторые вчерашние неразлучные сотоварищи стали злейшими врагами, кое-кто покинул пределы Родины. Но в начале 60-х мы были сообщниками в борьбе с цензурой, мы мечтали о некой вольности изображения, отсутствии стереотипов в понимании современности и прочтении классики. Нам виделась уникальная лаборатория кино, новая волна как плацдарм для свободного эксперимента, кровно связанного с талантами современной литературы. Руководство объединения всячески помогало этому, подкармливая бедствующих гениев, выплачивая аванс неугодным и запрещенным.
Много лет спустя Василий Аксенов не без ностальгии вспомнит: «В то время не так легко было заработать денег, однако на „Мосфильме“ существовало писательское объединение. Туда можно было прийти с заявкой на сценарий, подписать договор и уйти с двадцатипятипроцентным авансом. И, что самое приятное, если даже сценарий выбрасывали в корзину или запрещали, деньги оставались у тебя».
Новое сообщество быстро завоевало авторитет. В коридорах главной студии страны мы ощущали себя элитой, с нами каждый хотел подружиться. Мы еще не ведали, что опасные, хитрые обходы установлений власти грозят расплатой, что раздражение начальства растет и нам все труднее будет лавировать, отстаивая свои планы, идеи, фильмы.
Цензура бдила, старалась отслеживать любую недосказанность, запрещая фильмы еще на стадии сценария, особо выискивая пессимизм, секс, упадничество. Каленым железом выжигались «карамазовщина», «достоевщина», «толстовство», страшным приговором, как клеймо, звучало – «декаданс». Не в чести было вообще изображение интеллигентов. Героями должны были быть в основном «люди труда», персонажи волевые, несгибаемые, не сомневающиеся ни в чем. Такими изображались защитники Родины (лучше – павшие в бою) и ударники производства.
Даже фильмы по военным повестям: «Звезда» Эммануила Казакевича, «Спутники» Веры Пановой (впоследствии, после прочтения лично И. В. Сталиным, к удивлению цензоров‚ удостоенной Сталинской премии первой степени), «В окопах Сталинграда» («Солдаты») Виктора Некрасова – вызывали шквал критики. Ленты эти не вписывались в схемы стратегически спланированной победоносной войны. Позднее Сергей Довлатов, сетуя на резкое падение интереса к серьезной литературе, ерничал: «Раньше нами хоть ГБ интересовалась, а теперь до нас вовсе дела никому нет».
И все же парадоксальным образом сквозь заградительные решетки пробивались и высококачественные фильмы. Случалось и так: образованный цензор, оставшись наедине с творением художника, отмеченного богом или популярностью у публики, хотел выглядеть перед будущим поколением человеком, понимающим в искусстве, а вовсе не душителем талантов. Таковые водились и в руководстве «Мосфильма». Глядя на экран, они не могли не осознавать, что присутствуют при рождении фильма, за которым, быть может, мировое признание, и старались тайно облегчить его прохождение. В те годы негласное покровительство высоких поклонников сопутствовало Любимову, Окуджаве, Евтушенко, Высоцкому, Вознесенскому, Ахмадулиной, Твардовскому, Краснопевцеву, Гроссману, Солженицыну и другим. Кроме того, «Мосфильму» необходимо было хоть как-то выполнять план, давая художественные результаты. Движение наших картин на Запад, на международные фестивали порождало спрос на качество. Победа фильма Михаила Калатозова «Летят журавли» на Каннском кинофестивале («Золотая пальмовая ветвь»), картины «Иваново детство» Андрея Тарковского в Венеции («Золотой лев»), оглушительный международный успех «Баллады о солдате» Григория Чухрая поначалу вызывали растерянность властей: прорыв в мировое кино спустя три десятилетия после первой волны 20–30-х (Эйзенштейн, Пудовкин, Довженко, Козинцев, Ромм) не был предвиден и осознан.
Мало кто из нас предполагал, что оттепель заморозится так скоро, что эти «наезды» – лишь первый, поверхностный слой тех трагических событий, которые уже на пороге. Жестокость, беспредел в отношении художников иного стиля, рискнувших отстаивать собственное видение искусства, не совпадающее с официальной концепцией, еще были неведомы постсталинскому поколению. Ведь тогда казалось, что история нашей культуры пишется наново.
Начало 60-х, впоследствии названных «легендарными», – это взрыв новой литературы, живописи, театра и кинематографа. И, конечно же, неограниченная свобода «авторской песни», ознаменованной именами Окуджавы, Галича, Визбора, Кима, ставшего всенародным идолом Высоцкого‚ – они изменили сознание нескольких поколений.
В литературе – выход в «Новом мире» под руководством Александра Твардовского ошеломительной повести о лагере, о ГУЛАГе – «Один день Ивана Денисовича» Александра Солженицына. Начинается расцвет «деревенской прозы» – произведений Бориса Можаева, Владимира Тендрякова, Василия Белова, повести о «непридуманной» войне Виктора Некрасова, Василия Гроссмана.
Вспыхивает «зеленая лампа» нового журнала «Юность», который возглавил Валентин Катаев. Уже признанный почти как классик (повесть «Белеет парус одинокий» входила в школьную программу), он оказался человеком, безоглядно чтившим талант непохожих сочинителей, он печатал «непричесанных» молодых людей, сказавших свое, новое слово в литературе. «Интеллектуальная проза», «исповедальная проза», как ее ни назови, началась с «Юности». В поздних повестях «Святой колодец», «Трава забвения», «Разбитая жизнь, или Волшебный рог Оберона», «Алмазный мой венец» Катаев явил совершенно новую прозу, получившую восторженное признание современников.
В те же 60-е годы из насыщенного раствора вольницы выкристаллизовывались время от времени и новые общественные структуры.
В 1961 году случился переворот в Московской писательской организации – под светлым руководством поэта Степана Щипачева было выбрано новое правление – из вчера еще разруганных, «аполитичных» и полузапретных молодых литераторов. Все они почти сплошь были авторами «Юности». Вместе с Аксеновым, Евтушенко, Вознесенским, Гладилиным, Шатровым, Амлинским, Рощиным, Щегловым была избрана и я.
Вопреки расхожему мнению, в 60-х власть боролась с инакомыслием художественным даже более беспощадно, чем с «чуждой» идеологией. «Уничтожалось все непохожее, можно было делать только заданное, привычное», – вспоминал впоследствии Михаил Ромм. Блюстители режима могли выпустить «в свет» повесть, фильм, заставив автора, к примеру, изменить финал, «правильно расставить акценты». А вот индивидуальный стиль, почерк таланта, самобытность перекройке не подлежали. Любая особость художника вызывала ярость, шлифовать стиль, не разрушая саму ткань фильма, не получалось.
У катаевской «Юности» была и маленькая предыстория. Василий Аксенов (впоследствии реализовавший свою идею в альманахе «Метро́поль») носился с проектом нового журнала. Катаев придумал название «Лестница». Мы все были помешаны на этой идее. Кто-то вместе с мэтром пошел к министру культуры П. Н. Демичеву, чтобы озвучить необходимость создания молодежного журнала. Но Демичев название не одобрил, обещал подумать, и все застопорилось.
Как обычно, когда начальство хочет уйти от решения, идея погрязла в дебрях бюрократических инстанций, идея «Лестницы» канула в Лету. А потом тому же Катаеву, задолго, кстати, до получения «гертруды» в петличку (звания Героя Социалистичекого Труда), но уже классику, чье влияние на комсомольское поколение ассоциировалось с Пашкой и Гавриком [16], легко разрешили открыть новое издание для молодежи. Его предложили назвать попросту: «Юность».
Появление в журнале «Юность» стихов Булата Окуджавы, Андрея Вознесенского, Беллы Ахмадулиной, Евгения Евтушенко, Новеллы Матвеевой, Юнны Мориц, повестей и рассказов Анатолия Гладилина, Юлиана Семенова, Бориса Балтера, романа «Звездный билет» Василия Аксенова было воспринято молодежью на ура.
Чуть позже «Юность» опубликует и мою повесть «Семьсот новыми». В «Литературной газете» вышла разгромная статья, меня обвинили в формализме, что только добавило повести популярности. Однако издание отдельной книгой запретили. Тем временем повесть перевели и издали во Франции, и только через четыре года – в России. Инициаторами французской публикации стали Лиля Брик и Натали Саррот – гуру «новой волны», прозаик и драматург, перевернувшая сознание поколения наряду с Сартром и Симоной де Бовуар. Разразившийся по этому поводу скандал стал знаковым в моей судьбе.
Итак, сродни битломании, джазу, рок-н-роллу, литература насыщалась дерзостным сленгом, шоковым поведением героев, вступавших в любовные связи с невиданной легкостью, начисто сметавших привычные нормы приличия. Оттепель вроде бы набирала обороты, и нам казалось, что настает полная свобода стилей, образа мыслей и все зависит только от нас.
Из пьес Виктора Розова, Александра Володина, Михаила Рощина, Юлиу Эдлиса, Эдварда Радзинского в театре «Современник» хлынули на улицы пламенные споры о жизни, началось расшатывание трона В. И. Ленина в драмах Михаила Шатрова. Сленгом наших тусовок заговорили на улицах, в молодежных компаниях: «кадриши», «чувихи», «поужинаем и позавтракаем одновременно?». Так стали обозначать наш быт, отношения, как в свое время грибоедовским «Служить бы рад, прислуживаться тошно» или по Ильфу и Петрову: «Может, тебе еще ключ от квартиры, где деньги лежат?», «Лед тронулся, господа присяжные заседатели!». Конечно же, большой вклад в освобождение языка, нравов внесло всеобщее помешательство на Хемингуэе.
Где-то с 64-го года театральные аншлаги переместились на Таганку. Каждый новый спектакль Юрия Любимова встречали на ура, сам режиссер стал кумиром. Первое его открытие – поэтические спектакли. Постановка «Антимиров» Андрея Вознесенского вызвала небывалый ажиотаж. Выдержав около тысячи представлений, этот спектакль по-новому высветил таланты Владимира Высоцкого, Аллы Демидовой, Валерия Золотухина, Вениамина Смехова, Зины Славиной, породив фанатов стихотворно-театрального жанра и новых поклонников Вознесенского. (Второй бум театральной популярности Андрея случился почти 20 лет спустя в Театре Ленинского комсомола после спектакля «„Юнона” и „Авось”» Алексея Рыбникова и Марка Захарова.)



