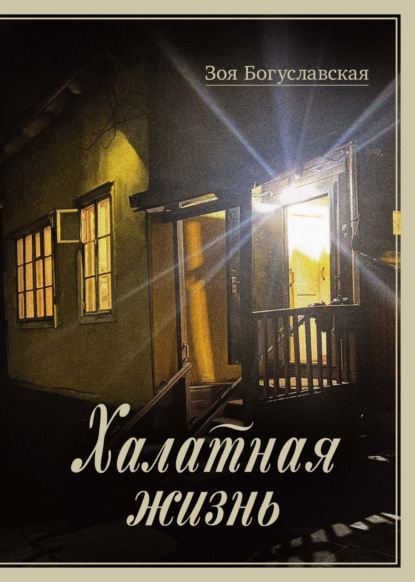
Полная версия:
Халатная жизнь
Начался заезд. Я наблюдала, почти не реагируя на то, как резво, ускоряя бег, неслись одна за другой качалки с жокеями, их красные, синие камзолы были как трехцветные флаги. И вдруг осознала, что именно моя лошадка опережает их, вырывается вперед!
Уже не знаю, волею каких судеб она пришла первой? Можно догадаться, что ни один здравомыслящий человек на нее не поставил. Поэтому выигрыш, доставшийся мне, был астрономическим. На свои три рубля я выиграла 1500 рублей!
Такую сумму мало кто из нас в глаза видывал, она почти равнялась гонорару за напечатанную повесть немаленького объема. (По статистике, к которой я сейчас обратилась, средняя зарплата в СССР в 1962 году была 80,9 рубля.)
Трудно описать реакцию завсегдатаев бегов, какой удар был нанесен их престижу. На Гладилине лица не было. Миролюбивый Жора Садовников сказал: «Что ж, Заяц, приоденешься, накупишь шмоток. Будешь первая леди ЦДЛ». Вася Аксенов наслаждался эффектом случившегося. Сгруппировавшись, они охраняли меня до самой кассы, как драгоценную вазу, которую могут вырвать и разбить. Затем, из кассы, мы молча проследовали на стоянку такси.
– Ну что, – спросил Аксенов, – по домам? После поражения и истраченных впустую нервов можно на заслуженный отдых.
Он зевнул.
– Как-то не очень хочется, – сказал Жора, – вроде бы рановато.
Они не смотрели в мою сторону.
– У меня предложение, – сказала я, скромно потупившись. – Едем в клуб – выпьем, погуляем.
– А как же твои шмотки? – покосился на меня Гладилин. – Это ж нечестно.
– Шальные, незаработанные деньги должны быть истрачены достойным образом, – заявила я твердо. – Я вообще считаю, что выигранные деньги – не мои деньги. Едем в ЦДЛ, отводы не принимаются.
Этот вечер закончился под утро. Начали в ЦДЛ, потом ходили в разные злачные места ночного обслуживания, пели какие-то песни… В общем, все прогуляли.
На другой день эта история уже гуляла по «Юности». Катаев, скривив губы, как человек бывалый, по слухам‚ когда-то сам азартный игрок, пробормотал: «Не думал я, не знал, что Гладилин в жизни куда азартней, чем в прозе». Быть может, с этих его слов и возник у Толи Гладилина замысел повести «Большой беговой день».
В ту пору выигрыши посыпались на меня повсеместно. Однажды случилось невероятное и в Париже. После выхода моей повести «Семьсот новыми» в издательстве «Галлимар» состоялась шумная презентация, которая стала одним из самых счастливых событий моей жизни‚ – мне была подарена поездка на юг Франции. Замечу, что в набор сюрпризов, который когда-то предсказала мне Ванга: успешная работа, внимание прессы, замечательно талантливых людей, несомненно надо включить и эту неделю во Франции – тогда еще мало существовало переводов повестей о современной жизни. Выход книги во Франции тогда свел меня с Натали Саррот, Марком Шагалом и его женой Вавой, Антуаном Витезом, Брижит Бардо и многими другими знаковыми людьми французского искусства.
Я побывала сначала в Антибе в гостях у Грэма Грина и в музее Пикассо в Сан-Поль-де-Ванс, затем у Марка Шагала. Впоследствии я бывала у Шагалов много раз, познакомила с ними Зураба Церетели. И уже после смерти Марка Захаровича я не раз бывала у его вдовы Валентины Георгиевны (Вавы), рассказавшей мне невероятную историю убийства в их доме.
А в тот первый раз Шагалы настоятельно рекомендовали пойти к Клоду Фриу [11]. Я была в восторге, они тут же организовали нам билеты на премьеру балета Бежара «Мольер» в Монте-Карло. Бежар поставил балет поразительно изящный, с непривычной для меня в ту пору новой хореографией.
Ну как же: приехать в Монте-Карло и не побывать в казино. Казино, рулетка – понятия, жившие в моем воображении с «Игрока» Достоевского, гоголевских мошенников, «Пиковой дамы» и так далее. Для меня это были сумасшедше-сожженные биографии талантливых людей, костлявые старухи, увешанные драгоценностями, лихорадочно прожигающие ночи, молодые‚ неизлечимо больные неврастеники.
Сегодня, когда казино в Москве яркостью и количеством опережают число театров и музеев, все выглядит более буднично. В Марселе меня встретили, а затем переживали со мной все впечатления и Фриу – «Рыжая семейка», как я их окрестила. С ними мне всегда везло несказанно: высокотворческие до мозга костей эрудиты со знанием многих языков, они были влюблены в русскую культуру и обладали врожденным демократизмом и интеллигентностью. Мне повезло иметь таких идеальных спутников по стране, где найти улицу без собственной истории о великих людях почти невозможно. И вот оно, казино.
Первый длинный зал, по обеим сторонам ковровой дорожки тянутся десятки игральных автоматов. Увидев мои загоревшиеся азартом глаза, Клод Фриу сказал: «Ну ладно, попробуй, вот тебе 100 франков» – на меньшее автоматы не соглашались. Каково же было его изумление, когда в ответ на положенную монету, звякнув, высыпались еще пять. Неслыханное богатство в 400 франков (100 я вернула сразу). Испытывая терпение своих спутников, я стала бросать сотню, и в каждом монеты в жестяной желобок сыпались как из рога изобилия. В большом казино, помнится, я играть уже не стала, мы опаздывали на балет, чьи-то ставки уже были сделаны на большой круг. После балета Фриу заторопились, им надо было к утру вернуться обратно в Ниццу. Я же, побыв еще день, с Шагалами полетела обратно.
Вторая часть жизни отнимала все выигранное, оборачиваясь потерями – ограбление дома, нападение на меня с ножом, кражи сумок, кредиток и так далее. Однако потери я никогда не переживала так бурно, как выигрыши.
Глава 6
Литература. Солженицын, Гамзатов, ПЕН и другие
18 сентября 2015 года
Помню, что в тот день, который не предвещал ничего особенного, был выставлен на Ленинскую премию «Один день Ивана Денисовича» Александра Солженицына. Мы обсуждали его на заседании Ленинского комитета. Уже нам было известно, что Твардовский пробился к Хрущеву и впервые, будучи столь опальным и столь часто ругаемым писателем, показал «Один день Ивана Денисовича» Солженицына… Повесть не предвещала никаких специальных извивов. Все уже было сказано, все про это было написано. Но это была невероятная повесть. Страницы «Нового мира», где она была опубликована, были разорваны в клочья от желающих прочитать. Путь героя, который прошел сам писатель. И христианская сентенция в конце, после всех этих мук и лишений. Один из самых обыкновенных дней заключенного Ивана Денисовича выворачивал наизнанку все благие человеческие свойства. Это был шок! Но, повторяю, на заседании не предвиделось ничего экстраординарного. Божественная рука генсека уже пролистывала повесть, он пропустил ее и одобрил.
Я в это время заведовала отделом литературы комитета по Ленинским премиям и в этом качестве должна была написать обзор для членов жюри. Конечно, члены Ленинского комитета не могли сами освоить такое количество разных сочинений – музыкальных, художественных, литературных. Я написала все, что было сказано и обсуждено по этой повести Солженицына, в обзоре прессы, который подавался на сессию при обсуждении. Каждый перед тем, как начать обсуждение‚ мог прочитать эту книжечку, где было рассказано обо всех кандидатах‚ и сделать свои выводы. Это был всплеск людского мнения и элиты о необыкновенном произведении Солженицына. Не было ни одного ругательного или критического слова об этой повести. Каков же был шок у всех присутствующих, когда лишь только началось обсуждение Солженицына, вдруг вылез человек по фамилии Попов, министр РСФСР…
Маленькое отступление: поначалу в комитете почти не было чиновников. По-моему, туда входила Фурцева, но не больше. Почему именно Попов задал направление этого ветра, который подул в совершенно противоположную сторону, я сказать не могу. Я не знаю, кто ему это все рассказал. Но он вдруг выступил, стал очень сильно осуждать повесть Солженицына, а в конце закричал: «Кто написал эту комплиментарную и лживую оценку в этом обзоре?.»
Для всех это было равнозначно тому, чтобы утверждать, что пароход был белый, а сегодня он уже стал черный. В таком же шоке была и я. Мы не могли понять, почему мнение этого абсолютного профана в искусстве вдруг так резко поменялось и пошло вразрез с мнением генсека, который лично одобрил это произведение. Попов поднял меня и стал отчитывать за мою подборку отзывов. Он кричал, был страшно недоволен. И надо сказать, что я всю жизнь считала, что поведение человека непредсказуемо‚ и это даже доказала наука. Ведь один, слыша крик избиваемого ребенка, бежит на помощь, другой же, наоборот, бежит подальше, чтобы этого не слышать. Мое поведение впоследствии казалось мне героическим: я выпрямилась, хотя была абсолютно в беспамятстве. Я очень хорошо помню, как‚ сжав зубы, с трясущимися губами‚ сказала: «Товарищ Попов, вы имеете право меня уволить, но я не позволю на себя кричать».
Наступила гробовая тишина, все ждали, что же будет дальше, но в этой тишине прозвучал голос (я не помню, кто это точно был): «Ну что ж! Это же всего-навсего обзор». Но даже он побоялся сказать правду, что в этом обзоре не было ни одной строчки от меня, все это были цитаты из рецензий, которые тогда пестрели хвалебными отзывами в адрес повести. Дальше все замялось, отмели кандидатуру Солженицына. Я села, обо мне забыли. Я молча ушла домой, но дома у меня началась настоящая паника. Главным для меня было даже не столько увольнение, сколько этот крик. Но я никогда не позволяла себе отрекаться от собственного «я». Я никогда в жизни не позволила себе никому поддакивать или оболгать кого-то, вне зависимости от того, люблю я этого человека или нет. Во мне жило это христианское чувство, хотя я нерелигиозный человек. Возможно, это во мне воспитал отец, который всыпал мне ремня за то, что мы с подругами воровали цветы с другой дачи. Я кричала: «Папа, ну их же никого нет! Цветы погибнут». На что он мне говорил: «Это тебя не касается. Это не твое! Ты не имеешь права взять, если это не твое». Я запомнила это на всю жизнь и всегда отдавала все найденное.
* * *29 сентября 2015 года
В то обманчиво-успешное время жизнь кипела ключом. В правление МО СП влилась волна абсолютно нового мышления, поступков, а главное, косяк новой литературы: Аксенов, Гладилин, Амлинский, Рощин, Шаров, Евтушенко, Вознесенский, Ахмадулина, Марк Щеглов, Лев Аннинский. Все мы вошли в новое правление Московской писательской организации. И начались бурные заседания, планы, каким коренным образом изменить всю общественную жизнь в организации, как поощрять свободомыслие, как дать возможность публикации, создания новых журналов и газет, поощрить совершенно иную стилистику и направление ума – таковы были планы новообразовавшегося «начальства». Сбывалась песенка Булата: «Скоро все мои друзья выбьются в начальство… станет легче жить». Вот теперь друзья вышли в начальники. Все это кончилось некоторое время спустя, когда Щипачева сменил на этом посту Феликс Кузнецов, который во время недолгого своего правления учинил расправу над неформальным альманахом «Метро́поль», который сочинили Василий Аксенов, Виктор Ерофеев [12] и Евгений Попов.
Второй, а иногда главенствующей фигурой этого правления был прозаик, тогдашний секретарь парторганизации, представитель клана «деревенской прозы» Елизар Мальцев. В отличие от стилистики его романов, отвечавшей привычным эталонам соцреализма, по характеру он был прирожденный лидер. Безоглядно отстаивал свободомыслие, был взрывным, не поддающимся обработке человеком. Он добивался разрушения привычного стадного голосования, которое побеждало раньше на партсобраниях. Но уже через год с лишним все изменилось: стала уплывать из нашей жизни так недолго маячившая вольница.
Хрущев во время разгромных встреч с интеллигенцией в 1963 году уничтожил художественную студию Белютина, высмеял работы Эрнста Неизвестного, кричал на Голицына, издевался над Аксеновым. «Вершиной» всего этого явился его знаменитый вопль с перекошенной физиономией и вознесенным над головой угрожающим кулаком, когда он изгонял из страны Андрея Вознесенского. Его слова «Вон, господин Вознесенский, из Советского Союза, паспорт вам выпишет Шелепин!» надолго стали устрашающим красным полотнищем перед глазами прозревших писателей. Хрущев ерничал, красный от гнева, выглядел как в преддверии апоплексического удара. Он являл всем своим видом подстрекательство: «Ату их! Ату!» – и зал радостно кинулся истреблять ростки молодой поросли, инакотворчества и независимости, которые только-только начинали утверждаться во всех видах искусства. «Оттепель кончилась, – кричал он, – теперь будут только заморозки, мы не допустим поднимать руку на компартию, не будет послабления художникам, которые идут против нас». Гнев генсека, главы государства‚ стал сигналом для всех нижестоящих начальников, которые радостно подхватили, усиливая и развивая гениальные указания вождя.
Елизар Мальцев держался мужественно. Он бегал по инстанциям, пытаясь вырвать каждого проштрафившегося из мясорубки репрессивной машины. Вскоре и с ним расправились. Он был изгнан со всех постов и уже больше к руководству и к руководящему пирогу не допускался.
* * *Много лет спустя какие-то истории уже в ПЕНе напомнили мне наше боевое прошлое.
Приоритетной деятельностью нынешнего ПЕНа [13] стала правозащитная деятельность. Мало кого интересует сегодня общественная жизнь, что, безусловно, отражается и на ПЕНе. Надо сказать, что произошла громадная и невозвратимая мена приоритетов, ценностей и интересов. Последним всплеском был организованный в 2000 году первый Всемирный конгресс ПЕНа в Москве. Усилиями Саши Ткаченко, который сейчас директор ПЕНа, Андрея Битова в качестве президента работали комитеты, обсуждались политические моменты раскола писателей. Приехали и крупные писатели из Аргентины, Мексики, был и Гюнтер Грасс, которого сделали центром западной общественной мысли и который сильно подвел ожидания многих общественных деятелей в том, что он укрепит авторитет ПЕНа в мировом общественном мнении. Октавио Пас был. Однако в центр обсуждения после круглых столов вышло письмо-выступление Гюнтера Грасса против войны в Чечне. Это письмо было поддержано Аксеновым, Поповым лишь в части пожеланий Грасса. Но они явились оппозиционным крылом всему законопослушному ПЕНу. Мне не понравилось письмо Грасса, равно как и позиция Васи и Жени. Слишком это все показалось политизированным, было какое-то желание защитить не столько несчастную Чечню и то, что в ней происходит, как засветиться в политическом бунтарстве. Это я не люблю никогда. Каждый из нас выступает против войны в Чечне. И находятся какие-то, как мне кажется, более точные адреса для этих возражений и протестов, чем подобный конгресс. Может быть, я и ошибаюсь.
А тогда, в 60-х, 70-х, мы еще не предчувствовали грядущего. Литературная жизнь в Москве и Ленинграде бурлила. Это напоминало 20-е годы, как о них рассказывали наши преподаватели. Почти ежедневно на обсуждении новых сочинений сшибались мнения, возникал новый «гамбургский счет», рождались репутации и сгорали, порой после первых солидных публикаций. Казалось, потерять эту атмосферу было невозможно. Литература стала делом жизни. Все жили литературой, все любили писателей, культ поэтов, которые выступали в «Лужниках», был очень высок. Андрей и Женя Евтушенко, который возглавил этот весь журавлиный клин, и Белла и Роберт, которого пела вся страна, а уж после «Семнадцати мгновений весны» и очень удачных его стихов, положенных на музыку, он стал культовым и в комсомольских бригадах, это был даже мостик к официальности. Обожатели были у каждого. Читки стихов и рассказов, дискуссии «по проблемам» стали повседневностью в Доме литераторов. Собирались на антресолях, обычно в 8-й комнате, а если количество людей превышало вместимость помещения, переходили на первый этаж, в Малый зал. В зависимости от оценок, которые давались на этих читках, рождались эпитеты, с десяток молодых почитались «гениями», сотни – «талантами», а все остальные «не лишенными интереса». «Бездари» в эти двери не стучались. Спорили о путях интеллигенции и свободе слова до хрипоты. Казалось, установления, которые рождаются сегодня, вечны. О, как же молоды и наивны мы были! Как скоро все это минет. И краткий период «оттепели» впоследствии, спустя 25 лет, и отрезок перипетий 1985–1989 годов будут черно-белой зеброй чередоваться с периодами запретов и гонений. Мнимым завоеванием свободы окажется и десятилетие Бориса Ельцина в 90-х, который посягнет на незыблемость авторитарного режима, правящей роли партии, ослабит цензуру в СМИ и даст выплеск наружу творческой свободе, уже неотменимой привычке говорить все вслух. А с другой стороны‚ это период, который породит ненависть и надругательство над законами братства и явление под названием «борьба компроматов». Свобода обернется своей обратной теневой стороной, выяснение отношений на дебатах, увы, будет чаще сводиться не к противостоянию смыслов, мировоззрений или точек отсчета, а выяснением личных отношений, вынесением на поверхность пузырей компрометирующих фактов.
* * *С великим акыном Дагестана Расулом Гамзатовым у меня связан целый кусок моей жизни. Сказать, что я с ним дружила, было бы преувеличением, но, во всяком случае, и он в какие-то узловые моменты моей жизни возникал на моем пути, и я присутствовала при его триумфальном взлете. О великом поэте Дагестана ходило столько легенд, сочинено столько мифов, что из них можно составить отдельную книгу. О его блистательном остроумии, о его буйном нраве, об амурных похождениях, о громких скандалах. Он не вмещался ни в какие схемы и законы, в рамки действительности.
Расул Гамзатов – это огромная гора, многоэтажный, многоквартирный дом, насыщенный разными составными его жизни. Но начнем с того, что он был удивительный поэт, что было понятно только из переводов Якова Козловского, Наума Гребнева и Владимира Солоухина. Они донесли его стихи как бушующий горный поток. Кроме того, сама его личность давала так много пищи для пересудов. Человек, достигший в своей республике самых крупных высот и вместе с тем международного признания, оказывался замешан в крупных масштабов скандалах, связанных с его поведением, небезразличием к женскому полу, ради которого очень многое совершалось. Просто он во многом не умещался в рамки действительности.
Я видела его очень близко в его родных местах. Когда Расул Гамзатов получил Ленинскую премию, туда была направлена делегация, в которой были Ю. Завадский, А. Твардовский, критик-литературовед Орлов, мой хороший друг И. Васильев и я. Когда мы туда приехали, нас принимали очень хорошо. Орлов даже написал четверостишие:
Я пошел бы выпить кофе в это дивное шалеС Богуславской в алой кофте, первой девкой на селе,Но гнетет меня Васильев под башмакИ в кишку путем насилья загоняет бешбармак.В программе нашего посещения было, конечно, пребывание в ауле Гамзата Цадасы, легендарного отца Расула Гамзатова, чьим именем было очень много что названо в Дагестане и откуда был родом Расул. Там в каждом дворе были накрыты столы – это было чествование общенационального характера. Когда нам нужно было улетать, мы увидели, что помощники Расула побелели и начали перешептываться. Оказывается, что люди, которые нас доставили в аул на вертолетах, все улетели и обратно лететь не на чем. Началась легкая паника, потом выяснилось, что летчики обиделись, что их не позвали к центральному столу. Пока шли переговоры с летчиками, прошли еще сутки. Я запомнила этот дагестанский национальный характер и поняла, что даже всесильный Расул Гамзатов ничего не мог сделать в этой ситуации.
Глава 7
Театр: Ефремов, Любимов, Табаков
24 февраля 2016 года
Сидя в кабинете директора МХТ, в котором в прежние времена мне доводилось бывать очень много раз, теперь я, конечно, с трудом вычленяю те впечатления и те чувства, которые меня охватывали, когда я сюда попала впервые. Для нашего поколения Художественный театр был святыней. С него начинался театр, он был путеводителем.
Если подумать над тем, что является стержнем моей жизни, моей художественной биографии, то все объединил театр. Я любила театры, все, что здесь происходило‚ было зоной формирования моего менталитета, это была моя жизнь, это были мои увлечения. И, конечно, это был тот культурный слой, который уже никогда не выветривался. И так получилось, что сегодняшнее мое тесное общение с хозяином этого кабинета Олегом Павловичем Табаковым явилось продолжением всего того, что в этом театре было мне дорого, хотя и он полностью переменился. Произошла смена представлений, смена внутренней политики театра и всего того, что сосредоточилось в двух художественных руководителях, с которыми мне привелось видеться и общаться очень много.
Я познакомилась с Олегом Николаевичем Ефремовым, еще когда он был в театре «Современник». Ефремов был фигурой настолько мощной, сильной и настолько харизматичной, как сегодня бы сказали, что его обаяние способно было перефразировать человека, который уже сложился в своем представлении.
Я очень много раз видела, как он приходил, разговаривал с каким-то человеком, и тот, кто только что брюзжал, в общении с ним таял‚ и разговор переходил в искреннюю симпатию и восхищение. У него был талант лидера. Вместе с тем его облик совершенно об этом не говорил. Мог быть и праздничный пиджак с бабочкой на приеме в посольстве, а мог быть помятый пиджак, куртка, но всегда отложные воротнички из-под куртки. Помню, любовь к галстукам была общей в этом поколении.
Когда он ел, где он ел, часами пропадая на репетициях? Он не обращал на себя внимания. Самый яркий период его творчества пришелся на этот театр, и когда он ушел из «Современника», это вызвало очень большую волну недовольства им, потому что он забрал с собой только часть актеров «Современника». Тех, кто был с ним в школе-студии.
Театр «Современник» был первым смелым, даже манифестным‚ что ли‚ театральным организмом, который очень изменил представление о театре. У него была установка на современную драматургию. Театр был всегда набит. Надо сказать, что Ефремов преуспел сильно потому‚ что он привел в театр Михаила Шатрова, Михаила Рощина, Александра Гельмана, и полоса‚ заполненная их пьесами, заставила наше общество очень электризоваться в сторону общественных побуждений. Я скажу, что это было время романтическое, время общественного темперамента интеллигенции. Представим себе: Олег Ефремов – театр, Родион Щедрин – музыка. Это было удивительное время романтизации общественного сознания. Все мы за что-то и как-то пытались бороться и полагали, что мы можем переустроить страну, как-то научить свободе, что наши поступки, наши разговоры и наше творчество способны к демократизации.
Я вам скажу, что было военное поколение, которое в других странах назвали потерянным. В нашем государстве было глубокое разочарование людей, которые ценой оторванных конечностей, вычлененной молодости, потерянных иллюзий отстояли мирную жизнь, в которой потом очень многие и себя не нашли, и не могли найти тех благ и того отношения, которое они ждали. Это длится до сих пор, когда разговаривает наша власть о ветеранах.
Это было время иллюзий, и, главное, это было верой в то, что слово, общественное мнение способно что-то менять в этой жизни. Три фигуры: Олег Ефремов в театре, Родион Щедрин в музыке, Евгений Евтушенко в литературе – стали депутатами Верховного Совета СССР. Они были уверены, что‚ придя туда и разговаривая наряду с Сахаровым, создадут те перемены, которых они ждали. Потом они оттуда вышли, время переменилось, но в театре Олег Николаевич, намного ушедший вперед в своем общественном желании переустроить мир, с моей точки зрения‚ был патриотом до мозга костей. Его все, что касалось страны, волновало намного больше, чем личное положение, благоустройство. У него не было никаких особых машин, специальных ресторанов. У него не было ничего, что сегодня отличает очень многих людей, что ли‚ их эмблема, или лейбл, как мы бы сказали, наклейки, которые идут впереди них. Подъехал «бентли», яхта пришла в гавань – вот, ясно‚ какого масштаба этот человек. У Ефремова этого абсолютно не было не потому, что он не мог это иметь, хотя и не мог, конечно, но это ему было абсолютно не нужно, это была бы обуза.
Постановки Олега Ефремова-режиссера – это те витамины, которые обществу были нужны. Сейчас, когда мы оглядываемся на многие эти пьесы, например Шатрова «Так победим», на которую пришло все политбюро смотреть, а постулаты того, как победить, были заложены в пьесе Шатрова совсем не те, какие были привычны в дохрущевское время, то был рев в зале. Люди вскакивали с мест. Это было общественное явление. Драматургия и театр становились общественным явлением.
Я считаю, что Ефремов в театре был публицистом. У него были поклонники, сама Фурцева, М. С. Горбачев, который его так любил. Я помню, как мне рассказывал лично Олег Николаевич: «Понимаешь, я попытался подробно объяснить Михаилу Сергеевичу, чтобы он дал возможность поставить [14]. Цензура все равно шерстит эти вещи, но‚ сказал он, подожди немножко, дай только раскрутить маховик». Вот эта фраза прошла потом через многие годы Олега Ефремова, он все ждал, что маховик раскрутится, что свобода будет полыхать и забирать все более широкое пространство, что флажки «Охоты на волков» Высоцкого будут стоять все дальше. И не будут загонять всех в то русло передовой и нужной литературы, которую было большое желание раздвинуть, хотя и оставалась ровно такая же сила сдавливания.



