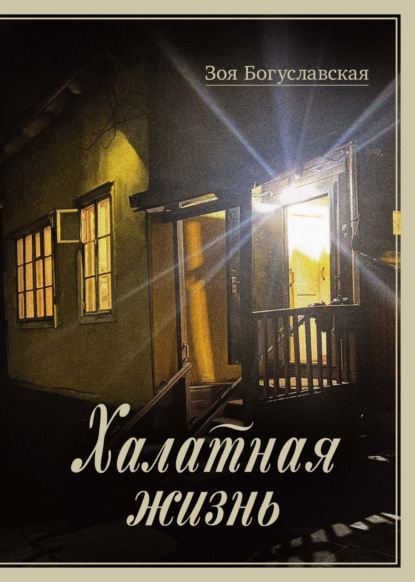
Полная версия:
Халатная жизнь
Странно, что все случившееся с «Андреем Рублевым» я воспринимала так лично. В дни обсуждения сценария режиссер Тарковский был для меня лишь автором «Иванова детства», но этот дебют произвел на меня столь сильное впечатление, что любой его следующий фильм мне виделся событием. Каждый, кто запомнил на экране мальчика, соединившего в себе взрослую яростную ненависть к фашистам и мечты ребенка, ждал продолжения, развития таланта режиссера. Для меня «Иваново детство», бесспорно, стало одним из самых ярких впечатлений в жизни.
Теперь, когда у меня появилась возможность привести выдержки из обсуждения сценария, я смогу в какой-то степени передать ту человеческую трагедию, которая разворачивалась на наших глазах, душевное состояние автора, вынужденного выслушивать бред не слишком осведомленного в искусстве чиновника. Напомню, что ее мне дал Андрон Кончаловский.
На зеленой с черным папке надпись: «Стенограмма заседания художественного совета. Обсуждение сценария. Шестое творческое объединение. А. Кончаловский А. Тарковский».
В обсуждении сценария были моменты, когда одна неудачная реплика могла решить его судьбу. Образчиком лицемерия, например, было предложение одного из руководителей студии‚ Данильянца. «Поскольку мы все здесь запутались, – горестно пожал он плечами, – давайте пошлем этот вариант сценария в главную редакцию, надо найти там умных людей, которые выведут ситуацию из тупика».
Как и все мы, он хорошо понимал: это значит – похоронить.
Многие настаивали на сокращении сценария до одной серии.
– Мне кажется, что сценарий абсолютно не нуждается в сокращении. Ведь сегодня вы рассматриваете лишь литературное произведение, это же только прообраз будущего фильма, – сказала я. – Редкий случай, когда все записано авторами гораздо подробнее и длиннее, чем будет снято для экрана. К примеру, сцена охоты. Я могу назвать несколько таких моментов, где подробности в записи служат обогащению замысла, насыщению действа информацией. Давайте, наконец, сдвинем ситуацию с мертвой точки, дадим возможность работать создателям картины с этим вариантом. На какой-то стадии только сам Тарковский ослабит или усилит напряжение, но для этого он должен уже работать с камерой. Дадим ему возможность. В режиссерском сценарии появится некоторый воздух, заиграет юмор, которым насыщен сценарий. Давайте доверимся режиссеру, прекратим эти издевательства над его психикой. Мое мнение: сейчас в каких-то сценах есть потери, сценарий может быть замучен. Предлагаю немедленно утвердить этот литературный вариант, дав возможность Андрею реализовать на съемках все приемлемое для него из сказанного.
Той же точки зрения придерживалось руководство объединения, однако Юрий Бондарев, подводя итоги, все же предложил отказаться от развертывания фильма на несколько серий.
Фильм запрещали чуть ли не 20 раз на стадии литературного сценария, настолько его боялись. Причем сейчас это смешно говорить, когда у нас вся страна превращается в полуклерикальное государство, все молятся, службы в церкви транслирует телевидение, а тогда боялись икон в фильме – этого неистового утверждения христианства и язычества одновременно, со сценами обнаженных купальщиц в языческом празднике. Тарковский, буквально пробегая мимо меня перед заседанием, сказал: «Если они и сегодня затопчут, то больше я не могу, я больше этим заниматься не буду, и меня не будет». Имел ли он в виду отъезд или что-то другое, я не могу сказать, но на меня это произвело глубочайшее впечатление, и я спонтанно выступила:
– Дорогие товарищи! Но это же нельзя, как можно столько терзать литературный сценарий? Давайте сделаем так: у вас есть замечания, у всех есть замечания – прекрасно. Дадим возможность режиссеру эти замечания реализовать, если он с ними согласен, и утвердим литературный сценарий, дав возможность делать режиссерский сценарий.
В этом предложении содержалась и хитрость, понятная профессионалам-киношникам: таким образом открывалось бюджетное финансирование, начинали идти государственные деньги, сценарий становился как бы государственным предприятием…
Совершенно неожиданно нашим союзником предстала Н. Д. Беляева из главной редакции. Я редко видела, чтобы человек с такой страстью отстаивал свою точку зрения. Будучи куратором фильма, она выступила против затягивания решения резче всех.
– Для меня история с этим сценарием выходит за пределы наших творческих, производственных обстоятельств. Для меня она вырастает в нечто другое. Присутствуя на многих заседаниях и обсуждениях, я не слышала ни от кого, что эту картину не нужно делать. Все соглашаются, что фильм должен быть снят, и для меня это незыблемо. Два года тянется какая-то резина. Причем непонятно, может быть, товарищи встречаются с некоторыми людьми, которые активно против. Для меня это как какой-то неуловимый дух, с которым бороться трудно. Я просто пользуюсь тем, что ведется стенограмма, хочу заявить, что историю с этим сценарием я считаю преступлением против народа. Это преступление. Прошу так и записать. Видите ли, я, может быть, скоро умру, и я хочу умереть с чистой совестью! – почти выкрикнула она в конце.
Наступила зловещая тишина. Тарковский долго молчал, грыз ногти, в глазах то и дело вспыхивало бешенство, он пытался себя сдержать. Потом, медленно растягивая слова, поблагодарил присутствующих за внимание к сценарию. Черты худого лица заострились, он делал нечеловеческие усилия, чтобы не сорваться. Я неотрывно смотрела на него, опасаясь самого худшего.
– Для меня выступление Данильянца было неожиданным, – сказал он. – Во-первых, мы уже сделали три варианта сценария помимо договора. По договору мы имеем право не делать больше ни одной поправки, больше вариантов сценария писать мы не будем категорически. Не будем писать по ряду причин, также и финансового свойства, но и не только поэтому, а и потому‚ что принципиально считаем сценарий законченным. Тем более что после обсуждения, которое было сегодня, все замечания, которые мы сегодня получили, сводятся, по существу, к сокращению и уплотнению вещи. Что это для нас означает? Работа над режиссерским сценарием для нас означает не просто разрезание его на кадры. «Много серий» не будет, будут две серии, как и было задумано, – обернулся он к Бондареву.
Потом в мою сторону:
– Конечно, многое, что пишется в литературном варианте, уйдет на второй план, станет более лаконичным, что-то уйдет на третий план, что-то вообще, потому что я все равно знаю, что материал нужно как-то ужимать…
Он остановился, казалось, потерял ход мыслей. Это было мучительно для всех. И потом уже – на вскрик:
– Я хочу только, чтобы был зафиксирован последний вопль души: дайте мне возможность скорее работать, иначе я дисквалифицируюсь как режиссер! Я не знаю, как буду проводить пробы, как буду ставить камеру. Я хочу заняться своей непосредственной режиссерской работой. …Больше я не буду вдаваться ни в какие подробности. Короче говоря, я благодарен еще раз художественному совету и умоляю: помогите, чтобы начались съемки… Я уже теряю силы!
Этот крик стоит у меня в ушах. Теперь, вспоминая, пробую спроецировать его слова в будущее, заглянуть в трагедию ранней смерти Тарковского, вспомнить‚ как мучительно и медленно он угасал, до последней минуты не прекращая съемок нового фильма. Уже совсем обессиленного, его привозили из больницы, делали обезболивающие уколы, и он продолжал работу. Так ведут себя художники, одержимые собственным талантом, для которых дар заполняет все их существование, даже тогда, когда физическая оболочка уже истончена и разрушена.
А дух остался. Так умирал в Париже и Рудольф Нуреев, привозимый в коляске в Grand Opera на репетицию балета Стравинского. Сродни этому и смерть Андрея Миронова, Олега Даля.
А тогда, 3 октября 1963 года, сценарий был утвержден «в основе» с обязательством «доработать» на стадии режиссерского варианта «в духе высказанных замечаний». Думаю, что ощущение, охватившее всех нас после заключительных слов Тарковского, заставило чиновников пойти на эти уступки.
Да… в случае с Тарковским объединение одержало победу. Но какой ценой? «Андрей Рублев» выйдет в прокат, искромсанный цензурой, много позже. По ходу продвижения картины на экран Тарковский переживет не одну тяжелую депрессию, которая скажется на всей его дальнейшей работе и в России, и за рубежом. В России он снимет пять картин высочайшего художественного достоинства, каждая из которых несет следы трагического разлома души, восприятия автором творчества как мученичества. Одиночество и непонимание, длительные бесцельные простои после каждой новой картины приведут Тарковского к решению покинуть Россию.
Андрон Кончаловский в книге «Возвышающий обман» предполагает, что Тарковский в силу природы его таланта, несовместимого с общепризнанным взглядом на искусство, несколько преувеличивал накал преследований.
«Ему казалось, – пишет Кончаловский, – что против него плетут заговоры, что ему планомерно мешают работать. Убежден, намеренного желания препятствовать ему в работе, во всяком случае в последние годы, не было. Просто сценарии, которые он предлагал вверху сидящим, казались им странными, заумными, непонятно о чем. В них не было социального протеста, способного их испугать. Андрей не был диссидентом. В своих картинах он был философ, человек из другой галактики».
Мне кажется, это не совсем так. Тарковский каждый раз загонял обиду внутрь, осознавая, что против него (его эстетики и таланта) ведется организованная кампания – его воображение в периоды бездействия усиливало трагическое состояние. Если человек этой силы воли, абсолютной жесткости, бескомпромиссности все же терпит издевательства над своей личностью‚ это не может остаться без последствий. Он мог снимать (рассказывают, но достоверно не установлено), как лошадей сбрасывают с колокольни Андроникова монастыря, как горят коровы, добиваясь исторической подлинности и достоверности.
Может быть, дело в том, что ему захотелось увидеть это прошлое, чтобы сказать о том, из каких корней растет эта сегодняшняя жестокость. Как эти варвары в XV веке строили жизнь. Через какие пытки и ужасы все это происходило.
И опять извечный спор, что важнее, жизнь или искусство, поскольку в угоду искусству сжигались дома, сжигались раритеты, артефакты. И никто еще не обрел право без суда лишать человека жизни.
Эта жесткость, бескомпромиссность Тарковского разрушала его здоровье, работа над «Андреем Рублевым» не позволяла переключиться ни на что другое – картина стала в те годы делом жизни.
* * *После отъезда Тарковского за границу начнется массовый исход из страны писателей и художников, отличающихся духовной группой крови от общепринятой. На какое-то время тихо, без огласки и политических комментариев уехал из СССР и Андрон Кончаловский. Уехали Михаил Калик, Фридрих Горенштейн, позднее – Василий Аксенов, Владимир Войнович, Георгий Владимов и многие другие – цвет тогдашней интеллигенции. Судьбы их сложились по-разному.
Вынужденная эмиграция коснулась почти всех первопроходцев нового искусства, экспериментаторов, носителей рискованных тем и характеров. В живописи, монументальном искусстве – Эрнст Неизвестный, Олег Целков, Лев Збарский, Оскар Рабин, Юрий Купер…
Никогда не забуду, как прощались с Эрнстом Неизвестным. Он получил распоряжение «убраться из страны» чуть ли не в 48 часов, в два дня. А ему надо было освободить мастерскую на Сретенке, где хранились все его работы, скульптуры. Абсолютно непредставимо, как можно это сделать в такой срок.
И мы побежали к нему – и проститься, и помочь, я очень хорошо помню, как мы вдвоем с Андрюшкой бежим по Сретенке, дикий холод, ветер. И видим метров за сто до его мастерской, как по улице нам навстречу летят листы с графикой Эрнста. Он, видно, выкидывал, или ветер выносил – это было так страшно, даже невозможно передать. Мы собрали пачку, но больше не могли, мы боялись, что он уже уедет и мы не успеем проститься.
Еще долго висела у нас на стенах эта графика.
Я была куратором фильма Михаила Калика «До свидания, мальчики». Автор поэтической сказки «Человек идет за солнцем», Михаил снял одну из самых щемящих лент о трагедии двух влюбленных, разлученных войной. В Израиле он не вписался своим наивно-романтическим дарованием в жизненный распорядок перманентно воюющей страны. Я больше не видела его картин.
Многие эмигранты были успешны, но мало кто превзошел достигнутое ими в СССР. А сегодня почти все уцелевшие вынуждены одной ногой стоять на земле, приютившей их (Израиль, Франция, США, Швеция, Германия…), другой – здесь, в России. Наше объединение сотрудничало со всеми уехавшими, вытаскивая запрещенные к печати или появившиеся в самиздате вещи.
Между первым и вторым арестом Александра Солженицына была попытка реализовать хоть что-нибудь из его сочинений, хотя само имя его в те годы уже изымалось из обращения. И вот – чудо! Удается подписать авансовый договор на экранизацию рассказа «Случай на станции Кречетовка». Даже повесть «Один день Ивана Денисовича», опубликованная в «Новом мире» Александром Твардовским с благословения самого первого секретаря ЦК КПСС Н. С. Хрущева, не могла быть упомянута. Власть испугалась потока «лагерной» литературы. Время стремительно менялось, заморозки крепчали.
Я была знакома с автором «Архипелага ГУЛАГ». Встречались в Театре на Таганке – Любимов был близок с семьей Солженицыных, навещал их во все времена, и теперь, к 80-летию Александра Исаевича, поставил на Таганке спектакль «Шарашка» (по главе из романа «В круге первом»), сам сыграв Сталина. Году в 65–66-м Солженицын был и на спектакле «Антимиры» по стихам Андрея Вознесенского. Потом посидели, попили чаю в кабинете Юрия Петровича.
Впоследствии возникли слухи, что Солженицын раздраженно высказывался о Вознесенском, называл его талант холодным. Но тогда, на Таганке, Александр Исаевич хвалил и стихи, и актеров, хотя мне казалось, что все увиденное было ему чуждо – он художник другой галактики.
Спектакль «Антимиры», который, как известно, выдержал на Таганке свыше тысячи постановок, неизменно собирал полные залы. Несомненно, какое-то эстетическое влияние, восприятие нового у поколения 60-х шло и через «Антимиры». Десятилетия спустя встречались люди, которые, узнавая Андрея в аэропорту, на улице, на каких-то обсуждениях и приемах, говорили: «Мы воспитаны на ваших стихах и „Антимирах“»… Почти все стихи, прозвучавшие в «Антимирах», знали наизусть. Конечно же, благодаря Любимову и артистам – Владимиру Высоцкому, Вениамину Смехову, Валерию Золотухину, Зинаиде Славиной, Алле Демидовой и другим. Важно и то, что в первых спектаклях (а потом только в юбилейных) стихи читал сам автор, что подогревало интерес.
Итак, по просьбе Александра Алова я взялась поговорить с Александром Исаевичем о возможном договоре. Увы, мы хорошо понимали, что сейчас фильм по Солженицыну никто не разрешит, однако это был именно тот случай, о котором упоминал Аксенов‚ – на стадии заключения договора нас не контролировали, а аванс автор мог не возвращать, даже если картина не состоялась. Для материально не благоденствующего, запрещенного писателя это было благом в то время. А там, полагали мы, глядишь, и наступят другие времена. С Александром Исаевичем мы встретились, договор подписали.
Следующая встреча случилась у нас в Переделкине. Это было зимой. Дома были в сугробах, снег чуть подтаивал, на дороге слякоть мешала езде, машины буксовали. Мы знали, что Солженицын скрывается на даче Корнея Ивановича Чуковского, тщательно оберегаемый хозяином. Позднее он довольно долго жил у Мстислава Ростроповича и Галины Вишневской. Его пребывание там описано подробно в книге Галины Павловны.
Сохранилась фотография Андрея и Александра Исаевича, довольно удачная. Когда открылся Дом русского зарубежья, я отдала ее Наталье Дмитриевне, вдове Солженицына, директору музея.
Был момент нашего пересечения, который оставил след в поэзии Андрея.
Итак, Корней Иванович позвонил мне в Дом творчества.
– Зоя, не собираетесь ли вы в Москву?
Живя там, я часто бывала у него в гостях. Началось с того, что он прочитал мою монографию о Вере Пановой, похвалил и пригласил на дачу. Потом он дарил мне свои книги, и «Чукоккалу», в которой были и стихи Андрея. Очень памятен был вечер в его доме с приехавшей из Сан-Франциско Ольгой Андреевой-Карлейль – внучкой Леонида Андреева, художницей и писателем, которую Корней Иванович знал еще ребенком.
– Собираемся, – ответила я, – пытаюсь завести машину. А что?
У меня был жигуленок третьей модели, исправно бегавший уже не первый год, водитель я была классный.
– Не добросите ли моего жильца до столицы?
Мы с трудом въехали на дачу Чуковского, а на обратном пути забуксовали. Непролазные сугробы перекрыли дорогу. Андрей с Александром Исаевичем толкали машину, я выворачивала руль, делала раскачку. Александр Исаевич толкал основательно, деловито, как привык исполнять всякий физический труд. Вспомнилась основательность, с которой работал Иван Денисович в повести одноименной. Андрей толкал изо всех сил, был он тогда тощим, не особенно сильным, но чрезвычайно храбрым в каких бы то ни было физических столкновениях и как петух врывался в середину дерущихся и тогда обладал недюжинной силой и стремительностью, а главное, его внутренний нервный аппарат и желание победить и первенствовать – оно как бы придавало ему еще силы. Он рассказывал несколько случаев, когда брал верх над людьми увесистыми, с мускулами, потому что был ныркий, ловкий и, обегая вокруг, вот как слон и моська, доставал противника. И вдвоем они вытолкнули машину, конечно, испачкались, потом пришлось немножко почиститься‚ и я вместе с ними враскачку, сидя за рулем, вперед-назад, все-таки вырулила машину‚ и мы поехали в город. Жаль, не могла это заснять, была бы неслабая фотка. Стихотворение Андрея об этой истории, которое он посвятил мне, заканчивалось строчками: «…Он вправо уходил, я влево, дороги наши разминулись».
В город мы ехали почти молча. Я из-за задержки очень торопилась, потому что время было потеряно, мне казалось, что он спешит‚ и, честно говоря, и мы спешили тоже, какая-то была впереди встреча‚ и не хотелось, чтобы люди ждали. Но в какой-то момент я, видимо, ехала слишком быстро, а я вообще по натуре гонщик, и Александр Исаевич стал нервничать и попросил ехать тише. Пытаясь успокоить его, я похвасталась, что вожу машину в таком режиме с 18 лет, всегда безаварийно, волноваться не стоит. Солженицын отреагировал жестко: «Зоя Борисовна, я не для того претерпел все: и тюрьму, и лагерь, чтобы из-за вашего лихачества или случайности рисковать жизнью. Езжайте осторожнее, пожалуйста».
Осторожнее так осторожнее, я сбросила скорость. Мы дотянули до Москвы, ни о чем не спрашивая. Подъехав к Арбату, Александр Исаевич внезапно тронул меня за плечо и попросил: «Высадите меня здесь. Когда я пойду, не оглядывайтесь. Не хочу, чтобы знали, куда я направлюсь». Сухо поблагодарив, он попрощался со мной и Андреем и вышел. Мы застыли, ошеломленные. Минут десять не решались двинуться с места. Тогда я подумала, что в человеке, прошедшем ГУЛАГ, всю жизнь не исчезнет зэк. Конечно же, и в мыслях у нас не было запоминать его передвижения. Нам рассказывали, что и в США, в Вермонте, Александр Исаевич оградил свою усадьбу высоким забором с проволокой.
Жизнь в других кинообъединениях складывалась ненамного благополучнее. Правда, авторитет крупных мастеров старшего поколения: Ивана Пырьева, Григория Александрова, Михаила Ромма, Григория Козинцева, Александра Зархи и других – помогал некоторым их лентам продираться сквозь частокол инстанций. К тому же у каждого из них часто срабатывал внутренний редактор, которого Александр Твардовский почитал опаснее, чем цензуру. Порой, не дожидаясь указаний, предугадывая возможные претензии начальства, мастер сам уродовал свое детище.
Некоторые писатели и режиссеры создавали повести-сказки и фильмы-сказки, что позволяло им иносказательно протаскивать запрещенные темы, расцвечивая фольклорными мотивами ткань ленты. Успех картин Григория Александрова и Ивана Пырьева был всенародным. Часто это был мастерски выполненный госзаказ на тему «Эх, хорошо в стране Советской жить!». В придуманном мире иногда творили и Любовь Орлова, и Марина Ладынина, и Сергей Лукьянов, и Николай Крючков – они были нашими тогдашними Кларками Гейблами, Мэрилин Монро, Жанами Габенами, Джуди Гарленд.
Когда началась горбачевская перестройка (1985), с полок сняли 50 (может‚ и больше) мосфильмовских картин. Увы, немногие из них выдержали испытание временем. Даже «Застава Ильича» Марлена Хуциева – культовая картина, ослепительно ярко-отразившая взрывной настрой, ликование поколения начала 60-х годов, или фильм Михаила Калика «До свидания, мальчики» – душераздирающее прощание уходящих на войну, в никуда, восемнадцатилетних ребят – будучи показанными сегодня, в наше грубое время вседозволенности, оказались наивно-романтическими. Стерся пафос бунта против серости, ограниченности, ушел ассоциативный ряд.
Конечно, сказалось и качество съемок, сам способ показа. За прошедшие 40 лет технические и другие возможности кино ушли далеко вперед. И вот парадокс: сегодня, когда экраны заполнены насилием, стрельбой, ненормативной лексикой или разгулом секса, фильмы 40–50-х воспринимаются сказками с добрым юмором, бесконфликтностью, за которую мы их в то время шельмовали. Отбрасывая недостоверность общего смысла, зритель впитывал мастерство их создателей, панораму яркой зрелищности той счастливой жизни.
Во время хрущевской оттепели, когда еще не устоялась идеология власти в новых условиях, в хаосе осмысляемого и запрещенного смогли проскочить немногие смелые творения мастеров искусства. Даже после марта 1963 года, когда Хрущев орал на интеллигенцию, выгонял Андрея Вознесенского из страны и вопил: «Теперь уже не оттепель и не заморозки, а морозы!» – не так просто было повернуть процесс вспять, заглушить ростки вольности, проросшие во все сферы жизни и искусства.
Та встреча вождя с интеллигенцией, запечатленная на пленке, ныне может быть проанализирована и оценена по достоинству. Неостановимо было новое мышление; занесенный кулак Хрущева и протянутая им рука прощения тоже были веяниями нового десятилетия, когда громили, но не расстреливали, запугивали, но не сажали. Сотни тысяч вернувшихся из лагерей, жертвы сталинских репрессий, тоталитарного режима уже несли правду истории. Мы узнали такое, что, казалось, возвращение власти в тот строй и систему взглядов уже невозможно. Заблуждение развеялось, хотя и не полностью, в 1965 году, когда начался процесс над Андреем Синявским и Юлием Даниэлем.
В то же время иллюзия свободы заставляла нас продвигаться в запретное пространство вольницы, а власть, например, уже не могла закрыть «Современник» и Таганку.
Противоречивость эпохи отражалась и в странном поведении министра культуры Екатерины Алексеевны Фурцевой. Бесконечные запреты, которые она озвучивала, ее попытка держать под бдительным оком личную жизнь каждого крупного художника, в особенности посланцев культуры за рубежом, ее смертельный страх перед «аморалкой», гневом Хрущева и ЦК неожиданно сменялись отвагой, желанием понять и защитить талант. Она рисковала, поддавалась интуитивным чувствам. Назначила бунтаря Олега Ефремова художественным руководителем МХАТа, разрешила репетиции острых пьес Михаила Рощина, Михаила Шатрова, Александра Гельмана, в какой-то момент не дала снять Юрия Любимова с поста художественного руководителя Таганки (потом, правда, испугалась). Она способствовала и назначению Алова и Наумова руководителями нового объединения. Впоследствии некоторые художники (Майя Плисецкая, Людмила Зыкина, Григорий Чухрай) с благодарностью вспоминали о том, как она их защищала.
В конце 70-х стало очевидно, что идеологически «построить» два «новых» поколения советских людей, вкусивших оттепели и увидевших западный образ жизни, уже не удастся, уже невозможно. Именно эти молодые в середине 80-х, при горбачевской перестройке и гласности, рванутся в свободное плавание, решительно осуществляя замыслы, о которых мы в 60-х и мечтать не смели.
Появятся картины, далеко шагнувшие вперед‚ – «Солярис» и «Сталкер» Тарковского, «Покаяние» Абуладзе, ленты о фашизме. После смерти Алова продуктивность в Шестом объединении резко упала, потеря соавтора и друга для оставшегося в одиночестве худрука долго мешала ему обрести форму.
С тех пор я часто встречала Владимира Наумова на чьих-то юбилеях, презентациях и, увы, похоронах. Седой, худощавый, высокий, он сохранил шевелюру, блеск глаз, подвижность и быстроту реакции. Он неизменно доброжелателен. Однажды я заехала к нему на «Мосфильм», захотелось побывать в комнатах, где сиживали 40 лет назад, увидеть, что сохранилось от того Шестого объединения. Разумеется, почти все неузнаваемо перестроено. Только насыщенная фотографиями, афишами, книгами приемная худрука напоминает о былом. И появившаяся сравнительно недавно книга «В кадре».
Нам не дано предугадать, достигнет ли нынешний российский кинематограф уровня тех былых шедевров. А наше содружество в Шестом объединении «Мосфильма» напоминает уже комету, которая, падая на Землю, теряет свой свет.



