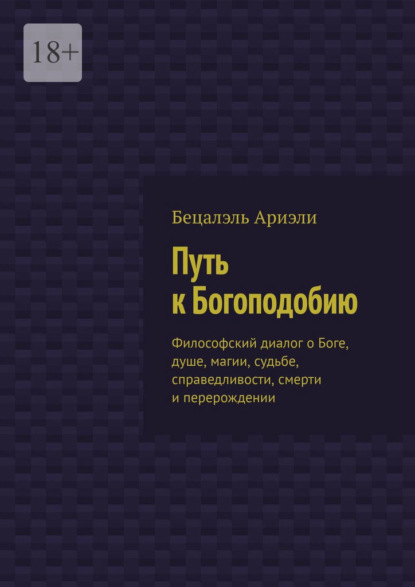
Полная версия:
Путь к Богоподобию. Философский диалог о Боге, душе, магии, судьбе, справедливости, смерти и перерождении
Ученик. Это к какому же?
Мудрец. Да к той самой божественной справедливости, объяснения которой ты так давно ждешь. Когда говорят «Бог справедлив», обычно имеют в виду, что он воздает каждому по заслугам. Мы можем считать справедливость еще одним атрибутом Бога, который прежде не называли при перечислении. И, естественно, он будет принадлежать к числу тех, в которых Абсолют проявляется в относительном, а не тех, что свойственны ему самому в себе. Фактически, этот атрибут есть ни что иное, как действие закона подобия. Приближаясь к Абсолюту, то есть уподобляясь ему, относительное приобщается и к его благости; удаляясь же – лишается ее. В этом внутренняя суть справедливости. Но то, что делает ее такой сложной, заставляя нас анализировать ее как отдельный атрибут, – это как раз сокрытие. Из-за него человек не понимает сразу, приближается он или отдаляется, а значимые последствия, которые бы ему на это указали, задерживаются. И в результате одни, получив уже некоторое представление о добре и зле, вынуждены внушать другим веру в них, убеждая их, что зло когда-нибудь будет наказано, а добро – вознаграждено.
Ученик. И это помогает нам понять то, как совершаются добро и зло в реальном мире?
Мудрец. Тебя ведь не устроило мое первое объяснение, основанное на законе подобия. Когда я сказал, что убийцы убийц и убивают, ты возразил, что, дескать, и порядочные люди гибнут от их рук! Но ты не принял во внимание степень сокрытия, которая отодвигает наступление последствий. Ведь, если ее совсем не учитывать, окружающий мир постоянно будет опровергать справедливость Бога, показывая нам, что на добро часто отвечают злом, а зло нередко приносит добро своему вершителю. Впрочем, так это выглядит лишь потому, что во внимание берутся только близкие последствия поступков. О далеких же всерьез можно говорить, только если мы уже приобрели хотя бы примерное представление о сокрытии и его правильной степени.
Ученик. Значит, ты хочешь сказать, что если убивают невинного человека, на самом деле это отдаленное следствие какого-то зла, которое он сам совершил в прошлом?
Мудрец. Да, это я и говорю. Если страдает невинный, значит на деле он виновный. Но еще раз подчеркну: будь оно хорошо видно, мы жили бы в мире с минимальным сокрытием, творили бы добро поневоле, лишились бы выбора и навсегда потеряли возможность уподобляться Богу по свободе. Однако ты уже понял, что мир не таков, а значит, логично ожидать, что отсроченные последствия не должны быть хорошо видны, но скорее могут стать предметом исследования и раскрыться лишь мудрецам.
Люди, стараясь уподобиться Богу во всех атрибутах, непременно тяготеют и к тому, чтобы воссоздать в своем обществе подобие божественной справедливости. И как с остальными качествами, получается это у них весьма и весьма относительно. Вот почему человеческое правосудие так часто хромает на обе ноги, осуждая невиновных или оправдывая виновных – все это из-за ограниченности относительного, которое лишь стремится к Абсолюту, но не становится таким же, как он, в полной мере.
Однако мы, говоря о несправедливом причинении страданий невиновным, должны помнить, что невиновными их следует считать лишь с точки зрения человеческой судебной системы, которой необходимо полагаться на доступные ей способы установления вины. Если же говорить с божественной точки зрения, в мире всегда господствует закон, который можно резюмировать в четырех тезисах:
– никто из совершивших добро не лишается награды;
– никто не получает награду, не совершив добро;
– никто из совершивших зло не уходит от наказания;
– никто не получает наказания, не совершив зло.
Ученик. Отчасти сказанное тобой сейчас дополняет то, чего мне не хватало ранее. И все же я не вижу, чтобы реальная практика подтверждала такой взгляд. Ты говоришь о том, что любой, якобы невинно пострадавший, на самом деле ранее совершил нечто такое, что вызвало это страдание в соответствии со справедливостью. Но ведь бывает и такое, что человек за всю жизнь не совершил ничего, что обрушило бы на него такое наказание. Наглядный тому пример – дети. Грудные младенцы еще ничего не сделали, а между тем они могут начать страдать уже с самого раннего возраста. Ведь они даже более, чем взрослые, уязвимы перед болезнями, а насильственные действия в отношении их, к сожалению, иногда совершаются, что уж говорить о гибели детей во время войн или стихийных бедствий. Как все это соотносится с картиной, в которой никто не страдает без вины?
Мудрец. Отвечу вопросом на вопрос. Мы ведь уже выяснили, что от степени сокрытия зависит то, насколько далеко откладываются значимые последствия поступков. А знаешь ли ты, насколько они должны откладываться для правильной степени сокрытия?
Ученик. Нет, похоже, об этом мы еще не говорили. Впрочем, я не пойму пока, как это помогает в разрешении моего вопроса.
Мудрец. Тогда послушай. Если рассуждать о мерах того, насколько сильно задерживается приход в человеческую жизнь значимых последствий, здесь можно выделить одну принципиальную черту. Она пролегает между жизнью и смертью. До этой черты – все степени, при которых последствия откладываются, однако успевают наступить в пределах одной человеческой жизни; после черты – степени, при которых последствия приходят позже.
Ученик. Ты говоришь о том, что награды и наказания за совершенные поступки могут прийти и после смерти?
Мудрец. Но ведь очевидно, что жизнь человеческая на земле не бесконечна. А значит, если мы будем все откладывать и откладывать, может наступить момент, когда последствия настанут, а человека уже не будет. Вот и получается, что если успевают последствия настигнуть человека, пока он жив – это одно, а если не успевают – совсем другое.
Ученик. Но здесь возникает парадокс! Ты ведь сам все время толкуешь о значимых последствиях, а значимыми ты назвал их потому, что так они воспринимаются тем, кто совершил вызвавший их поступок. Если же эти последствия наступили уже после его смерти, получится, что в мире уже нет того, кто мог бы приписать им какую-либо значимость. Выходит, пока человек был жив, значимых последствий он не увидел, а когда умер, любые дальнейшие последствия уже не будут значимыми для него. Не идет ли это вразрез с законом божественной справедливости?
Мудрец. Друг мой, это безусловно шло бы вразрез, если бы человек появлялся из ниоткуда одновременно с рождением своего физического тела и исчезал в никуда вместе с его гибелью. Однако это не так. Есть последствия, причины которых были созданы самим человеком еще до его рождения, или такие, что постигнут его уже после его смерти. Отсюда и ответ на твой вопрос о страдающих и гибнущих детях. Их страдания тоже имеют причину в их поступках, однако искать их следует до того, как те родились.
Ученик. Это подводит нас к неизбежному разговору о том, что такое смерть, и о том, что остается от человека после нее.
Мудрец. Ты совершенно прав. Позволь мне резюмировать ранее сказанное, отметив, что правильная степень сокрытия требует, чтобы бóльшая часть значимых последствий наших поступков не успевала настигнуть нас в течение одной земной жизни. Нужно это, опять-таки, для того, чтобы представления о добре и зле оставались в должной мере неочевидными для большинства живущих. Таким образом, закон божественной справедливости тоже в определенной мере скрывается, являя нам на поверхности картину кажущейся несправедливости, где некоторые невинно страдают, а некоторые незаслуженно наслаждаются. Отсюда мы приходим к выводу, что невозможно постичь – пускай даже только в теории – истинную справедливость, если не продлить наше представление о своей жизни за пределы временного отрезка, в течение которого существует физическое тело человека.
Ученик. Соответственно, нам предстоит говорить и о душе?
Мудрец. Поговорим и о ней. Это большая и важная тема. Ведь мы еще не затрагивали вопрос о том, почему сама жизнь человека, да и других живых организмов, имеет определенную продолжительность и заканчивается смертью. А без понимания смерти и разговор о душе окажется неубедительным.
Ученик. Если эта тема столь велика, не согласишься ли ты продолжить ее обсуждение завтра? Меня одолевает усталость после всего, что довелось услышать от тебя в этот раз.
Мудрец. Я соглашусь на твою просьбу, но и ты взамен обещай мне кое-что.
Ученик. Что же?
Мудрец. А то, что не станешь тратить время только на отдых и развлечения, но обдумаешь все, чего мы достигли в нашем философском исследовании. Ведь ты просил, чтобы постижение шло путем разума – пусть разум и поработает, как следует, над предметами, которые ему открылись, и подытожит на следующий день все, что было сказано накануне.
Ученик. Договорились. Завтра сразу начну с краткого пересказа твоих последних наставлений.
День третий
Ученик. Доброе утро, дорогой учитель! Погода сегодня просто чудесная: такое яркое солнце сияет на чистом небе, и так не соответствует это мрачной теме, которую мы договорились затронуть.
Мудрец. Что же это за мрачная тема?
Ученик. Мы ведь решили говорить о смерти, а она навевает гнетущее чувство.
Мудрец. Во-первых, начинать мы будем не со смерти, а с того, чтобы ты выполнил обещанное. Во-вторых, смерть мрачна, лишь пока непонятна. Мы же намерены сбросить с нее ее угрюмый балахон, и тогда она предстанет оку твоего разума в ином свете.
Ученик. Хотел бы я надеяться, что так и будет, поскольку меня мысли о смерти всегда ввергали в тягостное состояние. Быть может, потому я старался лишний раз и не думать о ней. Когда же о чем-либо совсем не думаешь, эта вещь, как была, так и остается неизученной и непонятной. Вот, наверное, почему я до сих пор не сумел соединить все части картины в одно целое и понять также и божественную справедливость, о которой мы говорили.
Мудрец. Давай к справедливости и вернемся. Ты ведь обещал сперва повторить пройденное накануне.
Ученик. На сей раз, учитывая, что материала становится все больше, и исключительно на свою память я уже не могу полагаться, я стал не просто размышлять о том, чему ты меня научил, но и начал вести конспекты. Стараюсь записывать каждый тезис вместе с подкрепляющими его аргументами.
Мудрец. Похвальное решение! И что же тебе удалось записать?
Ученик. Я разбил вчерашнее на несколько тем. Во-первых, выяснилось, что стремления людей уподобиться Абсолюту по разным его атрибутам могут вступать в противоречия. Аналоги этих божественных атрибутов, представленные в относительном, мы договорились называть ценностями, и оказалось, что между некоторыми ценностями возникают конфликты. Ты объяснил это ограниченностью относительного и тем, что в нем каждое качество получает некоторое количество, что и определяет его важность и приоритет.
Мудрец. Все верно. Какой же конфликт ценностей наиболее важен для нашего понимания?
Ученик. Это конфликт между свободой и остальными ценностями. А точнее говоря – между стремлением человека стать таким же свободным и необусловленным, как Бог, и его стремлением уподобиться Богу в остальном. Ведь Бог не имеет причины, а потому ничем не обусловлен, тогда как относительное ее имеет и ею обусловлено. Следовательно, Бог, задавая своими качествами образец для подражания, этим самым и лишает человека свободы.
Мудрец. И что же происходит для разрешения этого конфликта ценностей?
Ученик. Мы описали это как отворачивание человека от Бога, при котором возникает сокрытие. А затем определили, что у этого сокрытия бывают различные степени. От них зависит пропорция между обладанием свободой и очевидностью божественных качеств в мире. Также и представления о добре и зле определяются этим. Ведь добром мы назвали все, что приближает к Богу, а злом – что отдаляет от него. Значит, чем большее человек имеет представление о качествах и атрибутах Бога, тем яснее для него, что есть добро, а что зло. В условиях малого сокрытия знание о Боге и его атрибутах становится более очевидным, и тогда его невозможно игнорировать. Оно превращается в самодовлеющее начало, ведущее человека за собой, и этим лишает его свободы выбора. А при наличии большого сокрытия свобода увеличивается, но человеку становится труднее отыскать в мире путь добра.
Мудрец. Что еще зависит от степени сокрытия?
Ученик. Ты говорил, что сам мир учит своих обитателей путям добра и зла тем, что дает им реакцию на их действия, производя значимые последствия. Чем плотнее завеса сокрытия, тем больше эти последствия откладываются, а проследить причинно-следственную связь между поступком и тем, что он вызвал, становится труднее. И так человек оказывается в более запутанном состоянии, будучи не в силах увидеть, как его дурные поступки навлекли на него беду, а потому не сворачивает с тропы совершения зла.
Мудрец. Так и есть, и в этом мы тоже видим разделительный эффект времени.
Ученик. Ты мог бы пояснить это?
Мудрец. Мы знаем, что в самом Абсолюте нет течения времени, а получение результата находится в той же точке, где и стремление к нему. Поэтому, напомню, мы охарактеризовали Абсолют как неизменно удовлетворенный и благостный. В относительном же именно время создает разрыв между причиной и следствием, словно разбрасывая то и другое по разным периодам так, чтобы они не могли существовать вместе. И здесь открывается возможность углубить ранее обретенное понимание. Ведь очевидно, что эта функция времени возникает именно в виду удаления от единства Абсолюта. Логично предположить, что, чем больше это удаление, тем сильнее будет проявляться и разделительный эффект времени. Это, в свою очередь, превосходно согласуется с нашим предыдущим рассуждением о степенях сокрытия. Ведь малая степень держит человека, как мы выразились, на коротком поводке от Бога, не давая ему далеко уйти. На таком близком расстоянии и время еще не очень сильно отделяет следствия от причин, а потому значимые последствия поступков наступают быстро, создавая очевидность награды и наказания. Большая же степень сокрытия удлиняет поводок, и человек уходит в свой субъективный мир, забывая о Боге или подменяя его любыми иными представлениями. В таком удалении от единства Абсолюта время, если позволишь так выразиться, становится временем в еще большей мере, то есть его разделительный эффект возрастает, а следствия отодвигаются дальше от своих причин. Отсюда и уменьшение знания о добре и зле, так как проследить вред, вызванный злыми поступками, становится труднее.
Ученик. Получается, что удаление от Бога, эффект времени и уменьшение знаний о добре и зле есть три взаимосвязанных величины, которые возрастают или убывают вместе?
Мудрец. Ты все правильно понял.
Ученик. Как восхитительно связались у нас воедино различные аспекты знания! Однако я продолжу повторение вчерашнего урока. В основе божественной справедливости лежит закон подобия, согласно которому благо приходит к человеку в меру его уподобления Богу. Однако на это накладывается упомянутый эффект сокрытия, который делает эти связи неочевидными, и потому часто кажется, что зло приносит добро, а добро – зло. Остановились же мы на том, что для правильной степени сокрытия характерно откладывание значимых последствий настолько, что человек может не успеть дождаться их в течение жизни. При этом ты уверил меня, что они все равно наступают. Но если это происходит после смерти, или, если события, наступившие при жизни, могли иметь причины до рождения, это требует исследовать вопрос о смерти и о том, существует ли сознание без тела.
Мудрец. Этим мы сегодня и займемся. Для начала хорошо бы объяснить сам феномен смерти, а сделать это будет нетрудно.
Ученик. Я вот жду, как именно ты его объяснишь.
Причины смертности. Бессмертие присущее и заимствованное
Мудрец. Сперва, как обычно, дам общее предварительное объяснение. Пожалуй, ты и сам после всего услышанного мог бы это сделать. Ведь еще в первый день мы узнали, что все атрибуты Абсолюта взаимосвязаны и неотрывно требуют наличия друг друга. Вечность и бессмертие – как раз такие атрибуты, и принадлежать они могут лишь Абсолюту. Если бы человек в относительном мире также обладал присущим ему бессмертием, он фактически стал бы вторым абсолютом. А это невозможно, так как два разных абсолюта существовать не могут. Если бы они существовали, каждый из них чем-то должен был бы отличаться от другого, и значит каждый имел бы в себе то, чего у другого нет. Это, в свою очередь, сделало бы их ограниченными и уже не абсолютными.
Эту логику мы проговорили, как подобает, исследуя тему Абсолюта и его атрибутов. И отсюда непреложно следует, что может существовать один и только один Абсолют, по-настоящему обладающий бессмертием.
Ученик. И все же мы говорим о постоянном уподоблении относительного абсолютному. Разве это не открывает существам, живущим в относительном, некую дорогу к бессмертию?
Мудрец. Безусловно, ты затронул крайне важный вопрос. Если бы никакого уподобления не происходило вовсе, сама жизнь была бы невозможна, так как жизнь, пускай даже краткая и мимолетная, есть отражение божественного бессмертия в текущем мгновении. Значит, чем выше степень уподобления, тем больше эта эфемерная и мимолетная жизнь будет похожа на божественное бессмертие.
Ученик. Что же тогда заставляет ее прерваться?
Мудрец. Да вот как раз недостаточная степень подобия и заставляет. Видишь ли, настоящее бессмертие свойственно лишь Абсолюту, поскольку его бытие не зависит от иного, и ничто не в силах положить ему конец. А в относительном бессмертие может быть заимствованным у Абсолюта, как и все остальные блага, доступные относительному. Высокая степень уподобления позволяет продлевать существующую жизнь еще и еще, таким образом всякий раз откладывая ее прекращение. Это схоже с тем, как описали мы время: ведь оно, не имея ни начала, ни конца, является бесконечным и подвижным отображением постоянной вечности Абсолюта. Так и жизнь относительного могла бы сделаться бесконечной и не ограниченной временными рамками, став таким образом вполне достойным и соответствующим отображением божественного бессмертия.
Ученик. Но почему-то она такой не стала.
Мудрец. Здесь ты тоже вполне можешь сам догадаться, почему. Говоря о главном конфликте ценностей, мы отметили отворачивание человека от Бога в поисках свободы. Это был целенаправленный разрыв связи с божественным эталоном как суммой качеств, которыми обладает Абсолют. Это же глубокое изменение обозначают в религиозных традициях как грехопадение и неслучайно именно вслед за ним, по все тем же традициям, человек становится смертным.
Человек до грехопадения не имел собственного бессмертия (так как был относительным), но вполне мог наслаждаться бессмертием заимствованным или приобретенным в силу своей причастности Абсолюту. Человек же после грехопадения утрачивает эту причастность, а вместе с ней и бесконечную продолжительность жизни.
Ученик. Значит, одновременно с появлением сокрытия возникает и смертность?
Мудрец. Поистине, два эти явления взаимосвязаны. И поскольку сокрытие, как мы узнали, представляет благо для существ, обитающих в относительном, так как в итоге создает для них возможность примирить обе стороны в главном конфликте и достичь уподобления как по свободе, так и по остальным атрибутам, то и смерть мы должны будем рассмотреть с этой точки зрения – а именно выяснить, какую положительную роль играет она в том устройстве, что сложилось в относительном мире.
Ученик. Стоит ли в самом деле искать здесь положительную роль, если смерть пришла как результат удаления от Бога? Мы ведь установили, что приближение к нему есть добро, а удаление – зло. Значит, и смерть – тоже зло?
Мудрец. Вернее будет сказать, что смерть возникает как следствие зла, а сама выполняет функцию компенсации и исправления этого зла. То же самое можно сказать и о сокрытии. И так работает все в мироздании: если вследствие большего удаления от Бога появляются новые законы, силы или механизмы, они же становятся тем, что обеспечивает последующее приближение к нему.
Ученик. И смерть тоже приближает к Богу?
Мудрец. В определенном смысле – да. Но для того, чтобы это понять, нам необходимо поговорить о том, из чего состоит человек, и как он устроен.
Ученик. Я и сам чувствую, что этой части крайне недостает в нашем обсуждении. Когда ты говоришь, что смерть является благом для человека, это подразумевает, что у него есть душа, не так ли? И что душа сохраняется после смерти тела? Но можем ли мы понять, что такое душа?
Мудрец. Тебе, быть может, это покажется неожиданным, но давай зайдем с другой стороны и спросим: что такое тело? Оно, кажется, не представляет собой особенной тайны, и уж о нем-то мы наверняка сумеем хорошенько разузнать.
Ученик. Тайны здесь и в самом деле нет, и все же я не вполне понимаю, что ты ожидаешь от меня услышать.
Тело и душа в человеке
Мудрец. Просто дай свое определение, что такое тело.
Ученик. Едва ли мне доводилось над этим всерьез задумываться. Но если ты просишь, я бы сказал, что тело – это организм, состоящий из отдельных органов, которые совместно, каждый выполняя свою функцию, способны поддерживать в нем жизнь.
Мудрец. Твое определение исходит из того, как тело устроено и функционирует. Любую вещь можно описывать так, а можно определять ее, исходя из ее предназначения и цели. Так что послушай мое определение и скажи, какое тебе больше нравится. Я определяю тело как средство, позволяющее человеку уподобляться Абсолюту в относительном.
Ученик. Едва ли я ожидал такого определения, хотя, с другой стороны, после всего, о чем мы говорили, пожалуй, именно его и следовало ожидать.
Мудрец. Видишь, мы говорили уже о том, что сама материя этого мира представляет собой завесу, скрывающую Бога. И наши тела, будучи материальны, приобщают нас к этому миру сокрытия. Можно смело сказать, что человек материален настолько же, насколько он является телом, и нематериален, насколько не является им. А ведь материя – именно то, что связано напрямую с количеством. Это, в свою очередь, обусловлено ее бесконечной делимостью. Если определенный материальный предмет служит воплощением или выражением некоторой абстрактной идеи, то саму идею разделить мы не сможем. В лучшем случае сумеем лишь выделить из нее какие-то аспекты, грани или виды, но механически раздробить ее на части не получится. Материальный же предмет делится на сколь угодно малые частицы. И если к каждой идее, чтобы что-то из нее выделить, нужен особый подход, то материя дробится, в основном, одной и той же механической силой с той лишь разницей, что иногда этой силы требуется больше, а иногда меньше. Делимость материи на частицы – как раз то, что связывает ее с количеством. Следовательно, в любом объеме материи можно усмотреть любое число – все зависит лишь от того, число каких по размеру частиц будем рассматривать.
Ученик. Постой, ты говоришь, что каждая частица материи делима до бесконечности? А как это согласуется с знаниями, накопленными физикой и другими науками?
Мудрец. Вся история наук к этому и приводит. Когда-то люди предполагали наличие отдельных частиц, из которых образована материя, но не могли доказать их существование. Позже, уже в эпоху после научной революции, сумели выделить молекулы. Они, в свою очередь, оказались состоящими из атомов. Само слово «атом» в переводе означает «неделимый» и использовалось в попытке утверждать, будто ученые дошли до мельчайших единиц материи, меньше которых уже ничего нет. Однако вскоре стало ясно, что и атом вполне делим. Частицы, из которых он состоит, решили называть протонами, нейтронами и электронами. Затем отыскались и еще более мелкие элементарные частицы. И вновь, название «элементарные» подразумевает их простоту, то есть отсутствие в них какого-либо сложного состава. Однако теперь наука уже говорит о кварках, из которых состоят эти частицы, названные прежде элементарными.



