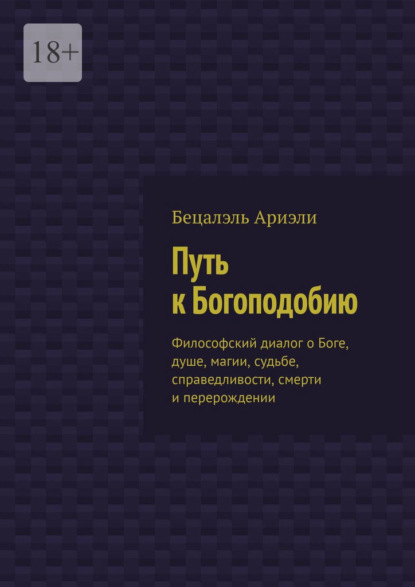
Полная версия:
Путь к Богоподобию. Философский диалог о Боге, душе, магии, судьбе, справедливости, смерти и перерождении
Ученик. С удовольствием! Первая тема – Абсолют и его атрибуты. Сам я и раньше размышлял иногда о Боге, но, по правде сказать, никогда еще мне не удавалось соединить все представления о его качествах или характеристиках в единое целое. Благодаря твоим объяснениям раскрылось, что все эти качества не только гармонично сосуществуют в нем, но и взаимно обуславливают друг друга. Безграничность, единство, благость, вечность, вездесущность – все это немыслимо одно без другого. Честно говоря, чем больше я размышлял об этом, тем яснее мне представлялось, что все перечисленное по сути является одним качеством, которое нам в силу дискретности нашего ума и условности языка удобнее представлять как совокупность качеств.
Мудрец. Я бы не поспорил с таким утверждением. Какова же вторая тема?
Ученик. Вторая – это относительное и то, как оно представляет из себя образ Абсолюта, а также как происходит из него, как следствие из причины. То, что большинство привычных нам в окружающем мире категорий – таких как время, пространство, порядок и так далее – являются отражением определенных атрибутов Абсолюта, также явилось для меня откровением. Впрочем, углубленный анализ сказанного подтвердил и его. Здесь же раскрылось и то, как проявления Абсолюта в относительном вытекают друг из друга и составляют такое же неразрывное целое, как и его атрибуты самого по себе.
Мудрец. Вижу, ты не зря вчера слушал меня. А что с третьей темой?
Ученик. Последняя важная тема из вчерашней беседы – уподобление Абсолюту, которое, как выяснилось, пронизывает всю природу, но особенно ярко выражается в человеке. Мы действительно разобрали все или большинство характерных для человека устремлений и видов деятельности – как сознательных, так и инстинктивных – и пришли к выводу, что за каждым из них кроется попытка в той или иной мере уподобиться одному из качеств Абсолюта. Должен отметить, это последнее открытие перевернуло мои взгляды на природу наших желаний. Но именно оно привело и к проблеме, которую сам я разрешить не могу; ты же сказал, что она послужит вратами к дальнейшему познанию.
Мудрец. Непременно послужит. Сегодня ты готов отправиться к следующим изысканиям?
Ученик. Готов. Я лишь хотел сделать прежде небольшое уточнение. Мы постоянно используем термин «Абсолют», а иногда называем его «Богом». Скажи, прошу тебя, есть ли какая-то существенная разница между двумя понятиями, или мы употребляем их как синонимы?
Мудрец. Абсолют является более чистым с философской точки зрения термином, поскольку он лишен множества неточных, неуклюжих, а иногда и вовсе неверных коннотаций, которые люди склонны приписывать слову «Бог». Поскольку религия, как я говорил, обращена к народам, и идеи о Боге в ней еще с давних пор были адаптированы к восприятию масс, которые в то время были безграмотными, да и в наши дни не всегда занимают вершину интеллектуального развития, – в религии образовались многочисленные описания Бога, способные ввести в заблуждение искателя истины. Часть из них можно принимать без дополнительных пояснений; другую часть следует интерпретировать аллегорически или символически, хотя многие продолжают понимать ее буквально; а есть и часть, которая неверна совсем.
Добавь к этому то, что на Земле существуют разные религии. Они нередко боролись и еще продолжают бороться друг с другом за влияние над умами, а свои священные тексты превращают в инструмент этой борьбы. В древности большинство религий были политеистическими, такие сохранились и в наше время – в них поклоняются не одному, но множеству богов. Мы же с тобой выяснили, что Абсолют может существовать лишь один, что логически вытекает из его природы. А посему многочисленные боги древних религий могут быть только относительными, но никак не абсолютными. Следовательно, используя слово «Бог», человек может запутаться и не понять, имеется ли в виду Абсолют, либо же речь идет об относительных существах.
Вот почему я использовал термин «Абсолют» в нашей беседе – чтобы исключить возможность путаницы и недоразумений. Оно помогает изолировать нашу дискуссию от машинального и неосознанного привнесения в нее религиозных доктрин. С другой стороны, желая сохранить связь с этими древними традициями, мы не отказываемся от слова «Бог», но лишь уточняем, в каком смысле оно используется. Если между нами присутствует соглашение, что слово «Бог» (по крайней мере, пока мы записываем его с заглавной буквы) означает именно единый Абсолют, то мы вправе употреблять оба термина как взаимозаменяемые. Вдобавок, слово «Бог» создает у большинства гораздо более живые и эмоционально насыщенные ассоциации. Когда мы продолжаем беседу, переходя к теме уподобления, гораздо удобнее будет произносить «богоподобие», а не «абсолютоподобие». Это же дает нам в дальнейшем и право упоминать о различных степенях такого подобия, называя те или иные вещи в определенной мере «божественными» (ведь назвать их «абсолютными» никак нельзя).
И раз уж ты заговорил об использовании слов, уточним также, что и термины «атрибуты» и «качества» также являются синонимами в нашей речи, покуда прилагаются к Богу-Абсолюту.
Конфликты в уподоблении Богу
Ученик. Итак, этот терминологический нюанс мы благополучно преодолели. Давай же вернемся к теме, на которой завершилось наше вчерашнее общение. Напомню, что камнем преткновения стал вопрос о том, почему мир, в котором мы живем, вовсе не воспринимается нами как совершенный и божественный, хотя выяснилось, что все его обитатели только и тем занимаются, что в каждом своем действии постоянно и непрерывно уподобляются Богу. Ты говорил также, что здесь лежит ключ к пониманию добра и зла, справедливости, судьбы и многого другого.
Мудрец. Чтобы понять эту тему, мы должны начать со следующего утверждения. В Боге, как выяснилось, все атрибуты составляют единое целое, и наличие одного не мешает существованию остальных. Но проблема относительного заключается в том, что в нем попытки уподобиться разным атрибутам Абсолюта зачастую противоречат друг другу, и в то время, как происходит уподобление по одному из них, это нарушает уподобление по другому.
Ученик. Ты можешь привести примеры?
Мудрец. Давай рассмотрим простейший пример из физической области. Возьмем пару противоположностей – покой и движение. Очевидно, что Бог пребывает в незыблемом покое. Ведь он вездесущ, и нет никакого места за его пределами, куда он мог бы переместиться. С этим же связаны его постоянство и неизменность. Стремясь уподобиться ему, человек также тяготеет к покою. Вот почему мы любим покой – отсюда и потребность человека во сне, и желание комфорта, который позволяет расслабиться. Однако для того, чтобы хоть сколько-нибудь приближаться к вездесущности Бога, человеку необходимо движение. Это мы уже выясняли вчера: двигаясь и разрабатывая все более эффективные и быстрые способы перемещения, человек покоряет пространство. У Бога нет дилеммы в том, стоит ли ему двигаться или пребывать в покое – ведь он и так находится везде. У нас же эта дилемма присутствует: если хотим приближаться к вездесущности, нам приходится вырывать себя из состояния покоя. Таким образом, уподобление в одном ведет к нарушению подобия в другом.
Ученик. Да уж, суровая дилемма…
Мудрец. Постепенно люди учатся объединять то, что казалось несовместимым. Например, создавая скоростные виды транспорта и автоматизируя управление ими, они отводят себе роль пассивных пассажиров в них, объединяя покой и движение в одном процессе. Однако заметь, что все такие решения достаются человеку с трудом и не сразу: иногда они требуют долгих поисков, борьбы и исправления ошибок. Отсюда видно, что, пока мы остаемся ограниченными, попытки достичь богоподобия в нескольких качествах сразу могут вступать в противоречие между собой, однако эта проблема в принципе преодолима.
Ученик. Есть ли другие примеры?
Мудрец. Перейдем от физики к этической области. Уподобление Богу в могуществе толкает человека вооружаться и создавать армии. Но, создав их, он непременно будет искать им применение, иначе их содержание становится неоправданным. В стремлении использовать такую силу человек станет устраивать войны, разрушать города и убивать людей. Так он отдалится от подобия Богу в любви, став жестоким и беспощадным. Тот же, кто избирает любовь, пойдет путем уступок и прощения окружающих, что в свою очередь приведет его к слабости и тщедушию. Приближаясь к божественной любви, он удаляется от божественного могущества. И здесь, как и в предыдущем примере, я не говорю, что это противоречие неразрешимо – напротив, можно достичь того, чтобы стать добрым и сильным, но это требует немалого труда. В масштабах же целых народов лишь долгий опыт и горькие ошибки приводят к осознанию того, что сила нужна для поддержания мира, а не развязывания войн.
Ученик. Но почему атрибуты, единые между собой в Абсолюте, становятся причиной разобщения в относительном? На первый взгляд, так происходить не должно. Ведь приближаясь к Богу, мы приближаемся и к его единству. А единство его в том и состоит, что все качества, силы и явления – даже те, что в относительном воспринимаются как противоположности – спокойно уживаются в нем вместе. Так почему же человек, делая шаг в направлении этого единства, не увеличивает свою способность объединять различное?
Мудрец. На то есть особая причина, которую нам надлежит внимательно изучить. Коротко говоря, виной всему – сама ограниченность относительного. Мы уже знаем, что относительное есть мера абсолютного, а любые меры всегда связаны с количеством. Атрибуты Абсолюта мы не даром называем «качествами» – ведь количество там неизмеримо, а потому его словно и нет. Возникает же оно именно в относительном, где каждое качество получает свою меру. И так разным качествам приходится уживаться друг рядом с другом, но не так, как они пребывали в Абсолюте, а разделяя между собой меры ограниченного. Так формируются и приоритеты среди качеств: более важным становится то, которое получает большую меру (или, что то же самое, большее количество). Выходит, между качествами возникает соперничество, где одно выигрывает лишь за счет другого – иначе говоря, в ущерб другому.
Ученик. Погоди-ка минутку! Я боюсь потерять нить изложения и потому вынужден вновь просить тебя проиллюстрировать высказанную мысль каким-то наглядным образом.
Мудрец. Сделать это нетрудно. Представь себе, что строишь дом, и что твои пожелания в отношении него сводятся к нескольким качествам. Во-первых, тебе нужна защита – дом должен оберегать того, кто в нем проживает. Во-вторых, ты хочешь, чтобы в доме было светло. В-третьих, в нем должен присутствовать свежий воздух. Думаю, мой пример никому не покажется фантастическим – на самом деле подобные требования обычно предъявляют к любому дому.
Итак, для защиты тебе нужны стены, а для освещения и вентиляции – окна. Сделав часть стены окном, ты умножишь приток света, а чтобы через него проходил и воздух, придется его открывать. Но очевидно, что чем больше в нем окон, тем меньше защиты предоставляет такой дом своим обитателям. Хочешь, чтобы дневной свет заливал твою комнату со всех сторон – сделай все стены окнами, и никакой защиты почти не останется. Думаю, не надо специально оговариваться, что мы рассуждаем сейчас о ситуации, где строителю недоступны решения в виде непробиваемых стекол, электрических ламп и тому подобного – ведь, как я уже сказал, любое противоречие в принципе разрешимо. Мы же, чтобы проиллюстрировать сам конфликт, говорим о ситуации, где такие решения еще не найдены.
Итак, здесь стремление к безопасности вступает в некоторый конфликт со стремлением к освещению и вентиляции. Важно обратить внимание на то, какую роль играет в этом количество. Допустим, участок, предназначенный для строительства дома, позволяет построить стену не более, чем на 5 метров в длину. Вот эти-то 5 метров и придется делить между стеной и окном. Чем больше будет одного, тем меньше другого. Следовательно, если наш строитель сделает дом без окон, он поставит безопасность бесконечно выше освещения. А если сделает дом из одних окон, без прочных стен – поставит освещение и свежий воздух бесконечно выше защиты (видимо, в этом случае у него получится нечто вроде открытой беседки, которая и впрямь никого не защищает). Стоит ему поделить стену, скажем, в пропорции 4 к 1, отдав четыре пятых под стены и одну пятую под окна, и он достигнет некоторого компромисса, получив и одно, и другое. Но в любом случае неоспоримо то, что из конфликтующих интересов один выигрывает лишь в ущерб другому.
Теперь ты видишь, что количество, присваиваемое определенному качеству, устанавливает его приоритет и важность. Такие же процессы происходят в человеческом обществе, когда речь заходит о распределении ресурсов. Те, кто пользуется правом получать больше ресурсов, тем самым утверждают свою значимость над остальными, и так возникают конкуренция и соперничество, а вместе с ними – зависть и ненависть. Все это, естественно, происходит именно из-за ограниченности самих ресурсов. Возьми какой-либо ресурс, которого более чем достаточно для всех, и вопрос конкуренции отпадет сам собой. Таковым ресурсом на нашей планете можно, например, считать воздух, хотя и это может со временем измениться. Соответственно, Абсолют, в котором нет ограничений ни в чем, не испытывает у себя соперничества, и все его качества и атрибуты уживаются в полном согласии и единстве. Вытекающее из этого отсутствие зависти и ненависти – еще один способ выразить то, что ранее мы уже назвали благостью. В относительном же различные качества теснят друг друга, пытаясь отвоевать одно у другого ограниченные меры и количества, и благость уступает место озлобленности.
Ученик. Получается, что все виды действий, какие стремится совершать человек и другие существа, являются актами уподобления Богу, однако эти акты могут мешать друг другу и, выигрывая в одном, человек будет одновременно проигрывать в другом?
Мудрец. Действительно. Это и объясняет то, что вызвало у тебя такое недоумение во вчерашней беседе. Ты удивлялся, как может следование инстинктам и бесконтрольное удовлетворение желаний служить способом уподобления Богу, если оно же становится причиной моральной деградации и приближает человека к животному уровню. Теперь становится ясно, что здесь присутствует та же проблема: уподобляясь в одном, человек теряет подобие в другом.
К примеру, питание, как мы узнали, есть восполнение недостатка, что делает нас более самодостаточными. Но человек, который много ест, может ожиреть и утратить ловкость, а ведь она тоже создавала в нем аспект богоподобия. Или же из-за постоянного преследования телесных удовольствий может притупиться его интеллект, и нарушится подобие по мудрости. А самое поразительное то, что даже одно и то же качество через обретение подобия может его же и терять!
Ученик. Вот уж действительно поразительно. И как такое происходит?
Мудрец. Вкушая пищу, мы ощущаем себя более самодостаточными, но это – в краткосрочной перспективе. Если же постоянно уподобляться Богу таким образом, можно настолько пристраститься к любимым лакомствам, что в дальнейшем их отсутствие будет вызывать нестерпимые страдания. Вот и получается, что в одном и том же качестве самодостаточности человек выигрывает к краткосрочной перспективе и проигрывает в долгосрочной.
Главный конфликт ценностей
Ученик. Но если на каждом шагу нас поджидают такие конфликты и противоречия, как же от них спастись?
Мудрец. Сперва давай договоримся, что аналоги божественных атрибутов в том виде, в каком они становятся понятны и доступны для освоения человеком, мы будем называть ценностями. Ценности – это все, что нам важно и дорого, к чему мы стремимся и чем хотим овладеть. К примеру, разум может быть человеческой ценностью, восходящей к своей первопричине – божественному всезнанию; сила – ценностью, восходящей к божественному всемогуществу и так далее. Чем больше мы будем от самого Абсолюта переходить к рассмотрению человека и его жизни, тем актуальнее для нас станет разговор о ценностях, поскольку в основе их лежит все тот же принцип богоподобия, которого мы все так хотим.
Ученик. Пусть будет так.
Мудрец. Тогда я скажу тебе, что всем конфликтам ценностей, какие мы можем встретить в нашей жизни, предшествует главный конфликт. Это противоречие между уподоблением Богу по свободе и уподоблением по всему остальному.
Ученик. Чем же свобода оказалась так нехороша, что поссорилась с остальными ценностями?
Мудрец. Рассуди сам. Ведь мы вчера, говоря о свободе, дали ей краткое определение. Помнишь его?
Ученик. Если память меня не подводит, свободу ты определил как «необусловленность иным».
Мудрец. Совершенно верно. Бог никем и ничем не обусловлен, и нет над ним причины, которая определяла бы, каким ему быть; следовательно, он абсолютно свободен. Но относительное имеет причину, а значит, оно неизбежно обусловлено. Давай теперь говорить о человеке как о существе, которое может сознательно действовать, уподобляясь Богу в том или ином аспекте. Если Бог является средоточием всех качеств, которому человек призван уподобиться, значит Бог и обуславливает поведение человека. Сам образ Бога в виде совокупности качеств словно висит у человека перед глазами как эталон, на который нужно равняться. Он постоянно напоминает ему, каким быть, к чему стремиться и чего избегать. Выходит, чем больше человек обращает внимание на такой образец или эталон и чем больше следует за ним, тем более и более обусловленным становится. Увеличивая свою обусловленность, он теряет свободу, а с этим приходит и горький вкус отдаления от Бога. Что же захочет сделать наш человек, чтобы из этой ситуации вернуться к уподоблению Богу по свободе?
Ученик. Видимо, он захочет отвернуться и перестать смотреть на эталон, обратив свой взор в другую сторону.
Мудрец. Именно так он и поступит. «Бог ничем не обусловлен, и я не хочу быть ничем обусловленным – в том числе и самим божественным эталоном», – скажет себе человек. И, отвернувшись от Бога, он устремляет свой взор в пустоту, которая позволяет творить и созидать все, что угодно. Отмечу, что сам человек, конечно, может запутаться и даже забыть потом, кто от кого отвернулся. Ему будет казаться, что это Бог скрылся от него, покинул его, забыл о нем. Но так как Бог вездесущ, он не уходит из какого-либо места и никого не покидает – он присутствует всегда, везде и во всем. Человек же, уподобляясь Богу по творчеству, сперва творит пустоту, как пространство для дальнейшей деятельности, а затем наполняет ее продуктами своих желаний, идей и чувств. В этой пустоте он не видит Бога, поскольку сам пожелал разорвать узы собственной обусловленности и потому словно ослепил себя, чтобы не видеть божественный эталон. Ведь уничтожить эталон он не в силах – Бог бессмертен и неуязвим. Значит, оставалось лишь ослепить себя, чтобы научиться жить во тьме.
Ученик. Какой драматичный поворот приняло наше рассуждение о человеке!
Мудрец. Эту же драму стараются передать и религиозные мифы, повествуя о ней как о грехопадении. Когда-то в древности, – говорят эти мифы, – человек жил в раю, где мог созерцать Бога и наслаждаться его благами. Но затем он нарушил волю своего Создателя и был изгнан из рая. Бог проклял его, и человек стал смертным, познав все тяготы материальной жизни.
Если вдуматься в подобные повествования, они всегда вызывают один и тот же вопрос: зачем человек, у которого было все лучшее, чего он только мог пожелать, решил пойти наперекор Божьей воле? Однако мы с тобой уже поняли, что это было актом провозглашения своей независимости и необусловленности, так как жизнь в раю перед лицом Творца дает человеку уподобляться ему по всем атрибутам, кроме одного – свободы. Ее-то человек и получил, потеряв остальное.
Ученик. И как же протекает жизнь человеческая во тьме и в изгнании от лица Божьего?
Мудрец. Посмотри на двойственное положение, в котором он оказался! С одной стороны, божественный эталон никуда не исчез, так как уничтожить его, как мы сказали, невозможно. С другой стороны, человек лишил себя возможности его видеть и потому живет так, словно его нет. Вот и получается, что истинная природа желаний и побуждений не изменилась – она по-прежнему сводится к постоянному стремлению уподобиться Абсолюту. Но человек отвернулся от видения Абсолюта и получил возможность рисовать перед своими глазами любой мир, объясняя себе собственные желания и поступки так, как ему захочется. Эта двойственность заставляет нас говорить о новом состоянии человека как о сокрытии. Еще раз повторю: не столь важно, кто от кого скрылся, поскольку отношения с Богом всегда взаимны. Мы, в ходе нашего рассуждения, понимаем, что это человек отворачивается от Бога в поисках индивидуальной свободы. Ему же может казаться, что Бог отвернулся от него. Так или иначе, сокрытие наступило, завеса опущена, теперь человек, образно выражаясь, получает право гражданства в проявленном, феноменальном мире – если говорить более привычным языком, в мире материи, которая начинает представляться ему объективной, тогда как Бог с его атрибутами – субъективным.
Ученик. Правильно ли я понимаю, что зло порождается в мире именно этим сокрытием?
Мудрец. Да, сокрытие приводит к возникновению зла. Но сначала нужно определить в общем, что такое зло, а для этого понадобится определить и добро.
Ученик. Я давно хотел об этом попросить. Давай же определим.
Мудрец. После всего, что мы говорили об Абсолюте и об уподоблении ему, это будет легко сделать. В нашем языке добро всегда противопоставляется злу, и вместе они образуют пару обратных друг другу понятий. Поэтому, строго говоря, не следует приписывать Абсолюту добро, так как это предполагало бы и гипотетическое наличие зла. Вернее будет говорить о его благости, как мы и делали. В относительном же мире добром следует считать приближение к Абсолюту, а злом – отдаление от него. Эти понятия можно распространить и на любые действия, которые вызывают приближение и удаление. Таким образом, злой поступок – тот, в результате которого степень богоподобия человека уменьшается. До грехопадения вся совокупность божественных качеств и была образцом добра, и следование ей считалось добром. Но доля добра была заключена и в том, чтобы отвернуться от этого образца, поскольку так человек уподоблялся Богу по свободе. Не сумев оценить по достоинству то, что у него было, человек легко выбрал то, чего ему не хватало. Ведь мы никогда не знаем истинную цену вещи, пока хотя бы раз не потеряем ее. После грехопадения добро и зло сильно перемешались, и теперь их распознание и обособление друг от друга становятся частью задачи, стоящей перед людьми.
Ученик. Когда ты говоришь «до грехопадения» и «после грехопадения», ты имеешь в виду, что это отворачивание человека от Бога произошло в конкретный исторический момент?
Мудрец. Вовсе нет. Мы говорим о двух состояниях, которые вытекают одно из другого в порядке причинности. О причине мы говорим как о том, что «было раньше», а о следствии – как о том, что «стало позже». Но таковы ограничения, накладываемые на нас языком. Ты правильно поступил, что попросил уточнения. В действительности причина и следствие могут существовать одновременно, как это справедливо в целом для Абсолюта и относительного. Точно так же сокрытие и разворот от Бога к тьме вытекают как следствие из состояния нехватки свободы, которое, в свою очередь, вытекает как следствие из самой природы того, как божественные атрибуты проявляются в относительном. При этом совершенно необязательно, чтобы прежде, чем это состояние наступит, проходило какое-то время.
Ученик. Я постараюсь запомнить это. Продолжим обсуждать вопросы добра и зла.
Мудрец. Получается, что благость Абсолюта, выражаемая в относительном его бесконечной любовью, требует, чтобы он всегда давал то, чего от него просят. Попросив себе свободу, человек получил ее, а вместе с ней обрел и возможность творить зло. Ведь если бы в мире существовало только добро, никто из живущих в нем существ не имел бы свободы. Им приходилось бы покорно следовать за добром, словно ведомым на поводке, и само совершение добра в этом случае не имело бы никакой ценности.



