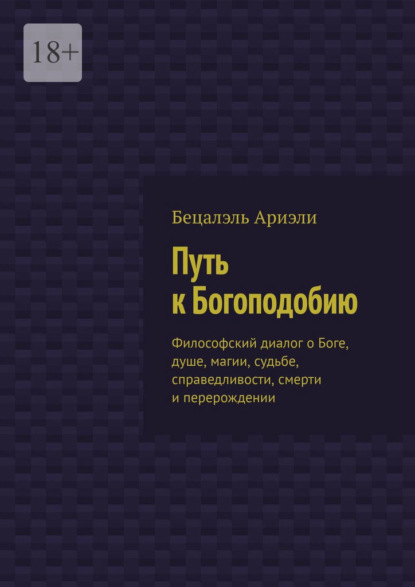
Полная версия:
Путь к Богоподобию. Философский диалог о Боге, душе, магии, судьбе, справедливости, смерти и перерождении
Ученик. А чем определяется ценность добра?
Мудрец. Когда мы, находясь в условиях сокрытия, совершаем выбор, мы проявляем через это свою волю и утверждаем в себе качество, соответствующее тому, что совершили. Ведь именно выбор в условиях имеющейся альтернативы является осознанным актом, определяющим волю того, кто выбирает. Если же никаких иных вариантов не было, выбор перестает быть выбором.
Ученик. Помнится, мы уже говорили о том, как свобода связана с возможностью выбирать.
Мудрец. Говорили. И пришли к выводу, что Абсолюту для того, чтобы быть свободным, выбор не нужен, а человек выражает свою свободу именно через выбор. И действительно, поскольку в относительном мире невозможно выбрать сразу все, но одно качество теснит другое и утверждается лишь за счет другого, как я объяснил тебе сегодня, это и создает ситуацию выбора. Ценность ее в том, что через выбор человек утверждает свою волю, а вместе с ней – строит одни качества в себе и уменьшает другие. Так он проявляет себя по аналогии с Творцом, поскольку и сам творит свою личность, словно художник, добавляя с каждым совершенным выбором все новые и новые штрихи к своему портрету. Точно так же и выбор добра имеет в себе этот творческий потенциал, лишь когда в качестве альтернативы ему выступает зло. Поэтому зло должно было неизбежно возникнуть, по крайней мере, как возможность в том состоянии, где человек отвернулся от Бога и создал сокрытие.
Ученик. Как ты сказал, Абсолют по благости своей всегда дает то, чего просят, а значит наличие зла также есть проявление его благости, ибо это то, о чем человек просил.
Мудрец. Правильно: человек просил о свободе, а она не имеет смысла без возможности творить зло, и Бог дал ему то, чего он хотел. Так мы еще раз приходим к выводу о том, что благость Абсолюта сама по себе стоит выше деления на добро и зло, а они определяются лишь в относительном мире.
Ученик. Но ты говоришь, что для наличия свободы достаточно иметь зло лишь как возможность.
Мудрец. Не будь наивным, думая, будто этой возможностью, если она уже имеется, никто не воспользуется. Человек не знает, какие гипотетические возможности по-настоящему возможны, а какие нет, пока не попробует их осуществить. Так было предопределено, что зло появится в мире и будет существовать не только потенциально, но и вполне реально.
Ученик. Я никогда прежде не думал о какой-либо фундаментальной необходимости зла. И хотя такое логическое рассуждение дает ясность применительно к нашему реальному положению в мире, в нем все же чувствуется и некая обреченность.
Мудрец. Только заметь, что обреченность эта касается именно мира. Мир действительно обречен на существование в нем зла, но человек волен избирать добро и спасаться от зла.
Ученик. А как можно спастись от зла, пускай даже и выбирая добро, если зло все равно повсюду присутствует в окружающем мире?
Мудрец. Чтобы ответить на этот вопрос, понадобится сделать следующий шаг в нашем исследовании и обратиться к тому, что мудрые люди называют божественной справедливостью. Но чтобы не томить тебя долгим ожиданием, дам тебе, как я уже не раз делал, краткий предварительный ответ, а в дальнейшем к нему придет дополнение и уточнение.
Ученик. Дай хотя бы краткий.
Мудрец. Если кратко, то здесь вновь действует закон подобия. Мы ведь уже видели в разговоре об Абсолюте, что чему уподобляешься, к тому и приближаешься. И напротив: с чем разрываешь подобие – от того удаляешься. В мире же смешаны и добро, и зло. Сознательно выбирая добро и совершая его, человек все больше уподобляется всем, кто полон добра, отдаляясь от злых. Так он и ограждает себя от постоянных встреч со злом. А выбирающий зло уподобляется злым, приближается к ним и часто сталкивается с другим злом, которому и сам подобен. Так зло само себя и наказывает.
Ученик. Звучит логично, но несколько утопично.
Мудрец. Почему же? По мне, так то, что я только что описал, мы видим в повседневной действительности. Люди тянутся к подобным им и часто даже неожиданные и незапланированные встречи случаются так, что каждый попадает в ту среду, которой соответствует по свойствам. В итоге интеллектуалы вращаются в среде интеллектуалов, дельцы и торговцы – среди подобных им, чернорабочие находят себе товарищей в своем же классе. Так же и воры общаются с ворами, а убийцы – с убийцами. Сами они, словно пауки в банке, друг друга, в основном, и убивают. Разве я не прав?
Ученик. Но ведь убивают же и добропорядочных людей!
Мудрец. Что ж, хотел я дать тебе краткий ответ, но вижу, что без долгого и развернутого рассмотрения божественной справедливости никак нам не обойтись.
Ученик. Похоже на то.
Различные степени сокрытия
Мудрец. Тогда следует, прежде всего, сказать о степенях сокрытия. Что такое сокрытие в целом и откуда оно берется, ты уже знаешь. Теперь обрати внимание на то, что мера сокрытия бывает разной. Давай для наглядности представим себе сначала крайности, а благодаря им лучше поймем и промежуточные состояния.
Одной крайностью была бы наименьшая мера сокрытия, при которой божественный эталон виден и различим практически полностью таким, каков он есть. В этом случае человек бы знал с максимальной ясностью, как и каким божественным атрибутам ему следует уподобляться, причем желание делать это возникало бы в нем легко и непринужденно, без необходимости в доказательствах. Ведь он сразу видел бы, как, уподобляясь Богу, он приближается к источнику блага, а значит каждый шаг в этом направлении отзывался бы в нем чувством наслаждения и счастья. Едва ли в таком состоянии хоть одно живое существо сумело бы сдержать в себе порыв к этому наслаждению. И человек, будь он помещен в подобную ситуацию, следовал бы за добром, как кролик за морковкой.
Другой крайностью становится наибольшая мера сокрытия, при которой божественный эталон полностью устранен из поля зрения и неразличим вовсе. В этом случае – пусть даже в глубине своего существа человек по-прежнему продолжал бы жаждать богоподобия – никаких ориентиров, как достичь такого состояния или хотя бы к нему приблизиться, у него не осталось бы. И человек, совершая зло, не имел бы шанса осознать, что это плохо для него. Отходя сколь угодно далеко от Бога, он не понимал бы, насколько вредит этим самому себе и обрекает себя на страдания. В мире, находящемся под столь плотной завесой сокрытия, Бога не оставалось бы ни как философской идеи, ни как символа веры. Не смогло бы возникнуть и отражение божественных атрибутов в виде поддерживаемых обществом ценностей.
Как мы уже узнали, сокрытие напрямую связано со свободой от обусловленности Абсолютом. Поэтому в первом случае – при наименьшей мере сокрытия – степень свободы человека, обитающего в относительном, оказалась бы минимальной, фактически ее не осталось бы вовсе. Во втором же случае будет присутствовать полная свобода, поскольку никакой идеал или образец не сможет диктовать человеку, как поступать и каким путем следовать.
Ученик. Встречается ли где-то в действительности столь полная свобода?
Мудрец. Как я уже сказал, это описание крайней степени сокрытия, и мы не встретим ее, по крайней мере, нигде в человеческом обществе. Ведь в этом случае у общества не осталось бы скрепляющих ценностей, воцарилась бы тотальная анархия, поскольку каждый стремился бы прокладывать себе путь, не считаясь с другими. Не трудно представить, что далее это привело бы к вражде всех против всех без шанса на раскаяние, и люди уничтожили бы друг друга, а уцелевшие выродились бы до состояния диких зверей или еще кого похуже.
Ученик. Значит, в реальном мире присутствует некоторая промежуточная степень сокрытия?
Мудрец. Да, промежуточная. Можно сказать, что, если бы мы с тобой выбирали эту степень, отрегулировать ее надлежало бы так, чтобы человек получал определенную меру свободы, которая ему самому представлялась бы достаточной, и в то же время, будь на то его воля, у него сохранялась бы возможность обрести представление о божественном эталоне. В таких условиях он мог бы постепенно достичь богоподобия по всем атрибутам – и по свободе, и по всему остальному.
Ученик. А как же главный конфликт ценностей, о котором ты говорил? Ведь ты указал, что уподобление по свободе противоречит остальному.
Мудрец. Видишь ли, дорогой мой, это противоречие так же разрешимо, как и прочие, которые мы обсуждали. Ты ведь помнишь, что и другие конфликты, связанные с уподоблением Богу, мы обрисовали как разрешимые?
Ученик. Я помню, как ты предложил скоростной транспорт в качестве решения для конфликта между покоем и движением. Но как должно выглядеть решение касательно свободы?
Мудрец. Очень просто! Человек ведь отвернулся от Бога, поскольку сумма божественных атрибутов как идеал для уподобления воспринималась им как навязчивая обусловленность. Если же он будет помещен в условия сокрытия, где этот идеал далеко не очевиден, но зависит от личного выбора, человек сможет выбирать его своим волевым актом, реализуя таким образом свою свободу, а не подавляя ее.
Ученик. Проще говоря, нужно сделать так, чтобы человек сам захотел выбрать добро. И тогда получится, что он уподобится Богу как по всем атрибутам, входящим в категорию добра, так и по свободе, поскольку сделал это сам, верно?
Мудрец. Так и есть. Примеры того, как работает этот принцип, мы видим и в отношениях между людьми. Так молодой человек, стремясь обрести независимость от родителей, покидает родной дом, а затем, оказавшись вдали от них, может вновь проявить к ним любовь – но это будет уже не любовь ребенка, обусловленная родительским авторитетом и необходимостью, а любовь свободного, зрелого человека. То же самое встречается и в других отношениях: любовь, обусловленная необходимостью, быстро теряет свой вкус, а укрепленная свободным выбором – отращивает себе крылья.
Ученик. Так значит, именно промежуточная степень сокрытия и приводит к тому, что перед человеком открывается возможность полного богоподобия?
Мудрец. Ты схватываешь все на лету. В самом деле, если скрывающая завеса будет чересчур тонкой, божественное будет слишком явно пробиваться сквозь нее, не позволяя человеку себя игнорировать. В результате он так никогда и не обретет свободы, постоянно ощущая себя вторичным по отношению к божественному, а все свои желания и поступки – производными от него.
Если же завеса станет чересчур плотной, исчезнет шанс на то, что человек, свободный и предоставленный самому себе, выберет добро. И тогда уделом его станут лишь боль и страдания. Вот и получается, что промежуточная степень сокрытия в известном смысле необходима, чтобы даровать человеку, пребывающему в относительном, возможность уподобиться Абсолюту по всем его качествам.
Ученик. Все это чрезвычайно интересно, но скажи мне на милость, что это за завеса, о которой ты уже не в первый раз говоришь? Идет ли речь о какой-то преграде или барьере, который мешает нам видеть Абсолют?
Мудрец. Поскольку мы говорим о сокрытии и, как ты уже заметил, вынуждены рассуждать также и о его степенях – без этого мы не осознали бы ту благотворную роль, которую сокрытие играет в мироустройстве, – нам приходится пользоваться и терминами, которые позволят как-либо измерять или оценивать эти степени. И так как другие уже обозначили эту скрывающую силу завесой или покровом, я выбрал для себя говорить так же. Конечно, никто не имеет в виду, будто где-то в пространстве стоит физическая преграда, по одну сторону которой находимся мы, а по другую – Абсолют. Завеса – это лишь символ, позволяющий говорить о степенях сокрытия. Соответственно, если сокрытие увеличивается, говорят, что завеса стала плотнее, а если уменьшается – что тоньше.
Ученик. Следовательно, эта завеса – условная, и ее нельзя считать материальной?
Мудрец. Ее как раз в некотором смысле стоило бы считать именно материальной, но, скорее всего, не так, как об этом подумал ты. Она не является конкретным предметом, сделанным из материи; скорее, она и есть материя.
Ученик. Как это?
Мудрец. Дело в том, что сама материя и скрывает Абсолют от глаз человека. Именно разворот от Бога к пустоте породил восприятие материи, и в этом новом состоянии она словно заслоняет собой божественное.
Ученик. Я все еще недостаточно понимаю, как она может что-либо заслонять.
Мудрец. Давай вернемся к этой теме позже. Пока скажу лишь, что материальный мир становится чем-то вроде облачения на божественные атрибуты и, подобно любому облачению, он и скрывает, и одновременно проявляет их в какой-то мере. Так, например, если бы человек с головы до ног был одет в непроницаемый комбинезон, эта одежда скрывала бы его от глаз наблюдателя и в то же время именно таковым – в виде комбинезона, а не живого тела – он являлся бы всем окружающим. Примерно то же самое представляет собой материальный мир, и правы те, кто говорит, что мир и есть сокрытие или облачение Бога.
Ученик. Хотелось бы услышать об этом побольше. А пока вернемся к тому, о чем говорили.
Мудрец. Итак, ты видишь, что главный конфликт ценностей становится разрешимым только при наличии промежуточной степени сокрытия. И действительно, легко показать, что именно она и преобладает в реальном мире.
Ученик. Как ты это покажешь?
Мудрец. Для этого достаточно лишь обратить внимание на установившееся в мире положение вещей. Как ты помнишь, эту промежуточную степень мы охарактеризовали тем, что божественный эталон в ней скрыт, но не полностью; иными словами, он не довлеет на каждым как навязчивая очевидность, от которой некуда сбежать, но и не является совершенно недоступным. Правильнее всего сказать, что этот эталон должен быть доступен как возможность для изучения в том случае, когда к тому пробудится воля самого человека. В реальном же мире так и происходит: людям не очевидно существование Бога, но и нельзя сказать, чтобы они ничего не знали о нем. Знание о Боге и вытекающее отсюда представление о добре и зле сопутствует человечеству на каждом шаге в его историческом пути, но всегда остается предметом веры и сомнения. Тем самым сохраняется хрупкое равновесие между двумя крайностями: нуждающиеся в большей свободе находят для себя основание отвергать Бога, а ощущающие потребность в сближении с ним отыскивают знание о нем.
Ученик. При этом и те, и другие на самом деле уподобляются Богу, просто в разных атрибутах?
Мудрец. Именно так.
Ученик. Отсюда получается, что истинное знание о Боге никогда не распространится во всем мире?
Мудрец. Пожалуй, не стану я сейчас брать на себя роль пророка и предсказателя и отвечу тебе только следующее: если знание о Боге распространится и будет ярко сиять всему человечеству, наш мир перестанет быть тем, чем он всегда являлся и не сможет уже выполнять свою главную функцию.
Ученик. Какова же эта функция?
Мудрец. Она в том и состоит, чтобы поддерживать ту самую необходимую меру сокрытия, предоставляя этим возможность достигать богоподобия по всем атрибутам, а не только по некоторым. И мне кажется, предшествующих моих объяснений должно хватить, чтобы показать, почему для этого сокрытие должно оставаться таким.
Ученик. Пожалуй, твои объяснения и в самом деле это показывают, хотя мне эта мысль все еще остается непривычной.
Мудрец. Тебе поможет свыкнуться с нею, если мы еще поговорим о сокрытии и его степенях. Позволь мне добавить к сказанному, что фактические степени могут изменяться для того, чтобы поддерживать главное, что требуется от самого сокрытия. Например, если среди людей слишком сильно распространяются идеи о божественном, это могло бы привести к уменьшению сокрытия и следующей за этим потере свободы. В этом случае завеса начинает уплотняться, восстанавливая нарушенный баланс. Случись же обратное, когда знание о божественном будет покидать обитателей мира, что приведет к чрезмерному увеличению сокрытия, – и завеса станет утончаться. Все это напоминает гомеостаз в живом организме: при падении внешней температуры тело стремится вырабатывать больше тепла, чтобы восстановить равновесие, а при перегреве запускает процесс самоохлаждения.
Поэтому упомянутая мной промежуточная степень сокрытия никогда не бывает четко фиксированной. Она испытывает колебания и может отклоняться в ту или иную сторону, но затем, по принципу компенсации, наступает ответная реакция. Отсюда и периоды в истории человечества, в которые приливы веры чередуются с ее отливами, а стремление к законности и порядку – с падением в хаос.
Ученик. Мне кажется, увлекшись этими степенями, мы позабыли о том, с чего начинали, и ради чего вообще понадобился разговор о них. А ведь ты собирался с их помощью объяснить мне, что такое божественная справедливость.
Мудрец. Не только собирался, но и сделаю это. Видишь ли, после всего сказанного пора бы нам ввести в оборот еще один термин. Убедившись, что промежуточная степень сокрытия необходима, мы станем называть правильной степенью такую, которая позволяет человеку наилучшим образом поддерживать равновесие между знанием Бога и свободой от этого знания. Это и есть та степень, о которой я рассуждал до сих пор. Однако мы выяснили, что и промежуточные степени бывают разными, так как завеса постоянно то уплотняется, то утончается; стало быть, правильная – это не любая промежуточная, а самая оптимальная для поставленной задачи. Как думаешь, есть ли еще какие-то требования к этой степени, чтобы считать ее правильной?
Ученик. Пока я могу лишь повторить то, что ты уже сказал: она должна допускать познание божественного, но не превращать его в навязчивую необходимость.
Мудрец. А как это отразится на поступках человека?
Ученик. Извини, но твой вопрос я не совсем понимаю.
Значимые последствия поступков
Мудрец. А ведь тут есть связь! Мы сказали, что знание о Боге подразумевает и истинные представления о добре и зле. Давай представим теперь человека, живущего в сокрытии, который ничего не знает о Боге. Перед его глазами – материальный мир, сложный, запутанный, подчас плохо предсказуемый. Как же этот человек может обрести какие-либо понятия о добре и зле?
Ученик. Возможно, ему стоило бы поискать других, кто уже овладел такими понятиями.
Мудрец. Но ведь и другие обитатели этого мира находятся с ним в равном положении. Если весь мир пребывает под завесой определенной плотности, это в некотором роде уравнивает всех, кто в нем живет. И если даже наш искатель найдет кого-либо, кто претендует на знание о Боге или о добре и зле, как он может быть уверен, что его не обманывают?
Ученик. У меня нет ответа на этот вопрос.
Мудрец. Очевидно, что условия, возникающие в мире под действием завесы той или иной плотности, должны оставлять большую или меньшую возможность убеждаться в истинности наших представлений о добре и зле. Иными словами, сам мир должен содержать в себе нечто такое, что не даст человеческим представлениям отклониться слишком уж далеко от правды. Ведь придумать знание о Боге можно и в состоянии кромешной тьмы, вот только какое отношение будет оно иметь к настоящему Богу?
Ученик. И что же содержит в себе мир?
Мудрец. Мир постоянно выдает человеку реакцию на каждый его поступок. И эти реакции начинают играть корректирующую роль для поведения самого человека. К примеру, ты положил руку в огонь и обжегся – так мир показывает тебе, что этого не стоило делать. Можно сказать, что в этом маленьком примере полученный ожог есть значимое последствие совершенного поступка. Так вот, в продолжение ранее поднятого вопроса скажу, что от степени сокрытия зависит то, насколько быстро приходят в жизнь человека значимые последствия его действий.
Ученик. Ты говоришь о значимых последствиях, а бывают и незначимые?
Мудрец. Да, это важное уточнение. Значимыми последствиями я называю такие, которые позволяют человеку оценивать правильность своих действий. Ведь у любого поступка может быть масса самых разнообразных последствий. К примеру, если я сорву цветок на лугу и отнесу любимой девушке, возможно, моя девушка согласится выйти за меня замуж, а между тем пчела, летавшая над лугом, не сможет добыть из этого цветка нектар. Мы никогда не видим всех последствий, да это и невозможно увидеть – они переплетаются в сложную ткань событий, больших и малых, которую человеческий ум не в силах распутать. Важно лишь то, когда наступают значимые последствия. Ты спросишь: кто придает им значение? Только тот, кто совершил соответствующий поступок. Если то или иное событие своим наступлением заставляет человека сказать: «Да, я вижу, что поступил правильно (буду так делать и дальше)» или «Нет, это было ошибкой (постараюсь так больше не делать)» – вот это и есть значимое последствие.
Такие значимые последствия приходят быстрее, если степень сокрытия меньше. Так мир словно сам учит нас науке добра и зла, быстро награждая за достойное и наказывая за дурное. Если же степень сокрытия больше, это оставляет и больше места для фантазий на тему добра и зла, поскольку значимые последствия поступков задерживаются, и все время, пока они не настали, человек может заблуждаться о правильности своего поведения. Следовательно, эта корректирующая реакция мира на действия живущих в нем стоит в прямой зависимости от степени сокрытия и сама же ее обуславливает.
Ученик. Я пока еще не до конца убедился в этом. Ты можешь объяснить подробнее?
Мудрец. Представь, что было бы, если бы значимые последствия наступали всегда очень быстро. Едва ты совершил какой-либо поступок, как к тебе приходит наслаждение или боль. Представь также, что никаких отсроченных и долговременных последствий не будет, а все, что имеет значение для тебя, произойдет сразу после твоего действия. Очевидно, что в таких условиях ты опытным путем очень быстро нашел бы критерии добра и зла, избавившись от любых иллюзий на их счет. Ведь мы уже знаем, что добро есть уподобление Богу (и действия, которые к этому ведут), а зло – удаление от него. Совершая любой поступок, ты быстро получал бы соответствующую меру благости, если он поставил тебя чуть ближе к Абсолюту, или меру страдания, если ты отдалился. Так, экспериментируя и предпринимая попытки, ты без труда определил бы, что есть добро, а затем только его и стал бы совершать. Ведь зло быстро и неукоснительно влекло бы за собой негативные значимые последствия. Не желая раз за разом переживать их, ты вырвал бы зло с корнем, избавившись от него раз и навсегда, и всецело отдался бы добру. Но это и поместило бы тебя в ситуацию, которую мы уже описали, когда говорили о крайне малой степени сокрытия – фактически, добро быстро превратилось бы в самодовлеющий императив, от которого ты не смог бы закрыться, а вся свобода выбора была бы безвозвратно утеряна.
Ученик. Теперь я понимаю.
Мудрец. Как видишь, все, что говорилось ранее о степенях сокрытия, неизбежно подразумевает и способность мира своими реакциями учить нас правильному поведению. Так добро и зло, а значит и вся сумма божественных атрибутов и знание о них, раскрывается человеку в той мере, насколько ему удается получить и понять значимые последствия своих действий.
Вот и получается, что при правильной степени сокрытия значимые последствия не могут наступать слишком быстро – иначе завеса резко утончится. Выходит, они откладываются и приходят не сразу. Сюда же можно отнести и запутанность или обманчивость последствий поступков в нашем восприятии. Ведь часто бывает так, что одни последствия действий наступают сразу и сулят добро, а позже приходят другие, принося с собой зло. Все это – дополнительный признак сокрытия. И вот мы уже готовы подступить к главному бастиону нашей беседы, который до сих пор все никак не решались брать штурмом.
Божественная справедливость



