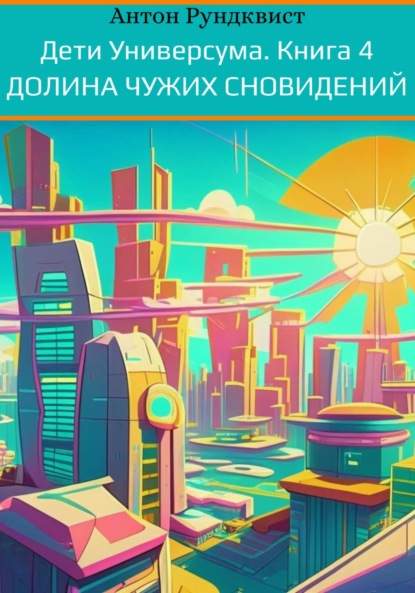
Полная версия:
Дети Универсума. Книга 4. Долина чужих сновидений
По шахте лесовик дополз до запертых дверей в хранилище. Перед ними дежурили двое бойцов, а под потолком вдобавок крепилась видеокамера. Ныка извлек умнофон и через установленную на устройстве программу подключился к системе безопасности. Путем несложных манипуляций лесовик изменил изображение, передававшееся в реальном времени на пост охраны, и теперь на тех мониторах демонстрировалась зацикленная запись с двумя скучающими у закрытых дверей парнями. Суть замысла лесовика сводилась к тому, чтобы ребята перед мониторами не видели, как их коллег у дверей вырубает некий неизвестный. Расправившись с камерой, Ныка достал парализующий пистолет. Два тишайших выстрела сквозь решетку вентиляции отправили по дротику с транквилизатором в шею каждого из солдат, стороживших вход в хранилище. Оба бойца мгновенно потеряли сознание и свалились на пол. Лесовик выбрался из отдушины и подошел к панели у дверей. Первый шаг – вставить поддельную ключ-карту господина Бьорна. Второй – набрать буквенно-числовой пароль. Комбинацию Ныка подобрал автоматически с помощью программы-взломщика с умнофона. Далее – сличение отпечатков пальцев. Лесовик надел заранее подготовленную перчатку и сунул руку в сканер. Получилось! Ну и заключительный этап – подтверждение личности по сетчатке глаза. Созданная на принтере модель, оказавшись достаточно достоверной, сумела обмануть компьютер.
– Доступ разрешен, – произнес электронный голос, и двери разъехались в стороны, пропуская лазутчика в хранилище.
Ныка проследовал в небольшую прохладную комнату. Посередине нее располагались четыре высоких столба, мигающих синими лампочками, и терминал. Лесовик уже приготовил было внешний носитель для копирования данных, как внезапно обратил внимание на предмет, торчавший позади одного из столбов. Похоже на… ботинок. Шпион насторожился. Он опять вытащил из кобуры парализующий пистолет и опасливо заглянул за столб. Увиденное никак не вязалось с первоначальным планом. На полу лежало мертвое тело. Короткостриженый мужчина с залысиной, одетый в синие брюки и черный пиджак с красным галстуком. А ведь день у господина Бьорна так хорошо начинался… Во лбу покойного зияло красное пулевое отверстие. Сработано профессионально. Рядом с трупом валялось оружие – девятимиллиметровый «Сивиспасем» с глушителем. Номера наверняка спилены. Ствол предназначался для разового использования и не представлял ценности. Убийца просто бросил пистолет за ненадобностью. Тут все ясно. Но чего Ныка не понимал, так это какого хаоса тело Бьорна делало в хранилище и кому понадобилось устранять старшего инженера «Ясень Электроник». И как потом убийца вышел из круглосуточно охраняемого помещения? Где находились бойцы «Темноводья»? Мистика какая-то… Или же заранее продуманная и умело расставленная ловушка…
Раздался вой сирены – то включился сигнал тревоги. Ныка быстро повернул голову в направлении дверей хранилища. Они принялись закрываться. Лесовик, действуя инстинктивно, метнул в их сторону парализующий пистолет. В результате феноменально рассчитанного броска оружие застряло между створками, не позволим им сомкнуться. Ныка подбежал к дверям. Несмотря на низкий рост, лесовики обладают недюжинной физической силой. Угодивший в западню лазутчик голыми руками раздвинул удерживаемые пистолетом створки на ширину, достаточную, чтобы просочиться в коридор. Благоразумно наплевав на цель задания, Ныка ринулся к вентиляционному отверстию – единственному пути к спасению. Увы, дорогу перегородили люди в бронежилетах и с автоматами.
– Ни с места! – приказал командир отряда.
Ныка проигнорировал требование и, не останавливаясь, кинул в солдат оглушающую гранату. Яркая вспышка ослепила бойцов, а звон в ушах не дал расслышать, шаги лесовика, пробежавшего мимо. Шахта вентиляции временно послужила Ныке укрытием, правда, к выходу она не вела, а заканчивалась в белоснежном коридоре, по которому вовсю сновали охранные роботы – тумбочки на колесиках, оснащенные видеокамерами и нелетальным оружием. Против них лазутчик применил электромагнитную мину. Покинув на секунду убежище, он точнехонько положил ее перед подъезжавшим роботом. Тот, наткнувшись на мину, привел в действие механизм, породивший мощное электромагнитное излучение, выводящее из строя любую технику в радиусе двадцати метров. Своими приборами Ныка также утратил возможность пользоваться, однако опыт, чутье и природный нюх никуда не делись. Это люди пускай целиком полагаются на электронные игрушки, а лесовику и без гаджетов нормально.
Лифт в конце коридора, естественно, оказался заблокирован. Ныка не растерялся и достал из сумки штуку, смахивавшую с виду и по механизму на кулинарный пистолет. Только подавался из ствола не заварной крем, а взрывоопасный гель. Нанеся смесь на двери лифта, лесовик отошел подальше и нажал кнопку детонатора. Грохот прокатился по этажу. Значит, скоро сюда сбегутся парни с автоматами, и нужно поторопиться. Ныка надел перчатки из специальной минимально подверженной истиранию ткани и, спрыгнув в открывшуюся шахту, зацепился за трос. Проскользив на металлическом канате, лесовик достиг нижнего уровня. Где-то здесь шахта соприкасалась с тоннелем, соединявшимся с городской системой канализации. Ныка принюхался и прислушался. Затхлый запах и звук стекающейся воды доносились из-за стены справа. Лесовик применил очередную порцию взрывчатого геля. А что? Тревога и так поднята. Шумом больше, шумом меньше. Зато так получился (с учетом остальных перекрытых ходов-выходов) кратчайший путь наружу.
По сточной канаве Ныка мчался со скоростью чемпиона по спринту. Не заблудиться в запутанных лабиринтах канализации лесовику вновь помогали природные навыки ориентирования. Спустя полчаса Ныка сдвинул крышку люка, заслонявшую дневной свет, и вылез на поверхность. Сбросив с себя грязную униформу уборщика, шпион поспешил смешаться с толпой посреди оживленной улицы. Опасность миновала. Враги не сумеют напасть на след лазутчика. Однако расслабляться рано. Ныка направился в свою квартиру. Но не в ту же самую, а в другую, припасенную на случай, ежели надежный лесовикский нос почует вероятную засаду. Труп в хранилище данных лежал не случайно. Трупы в принципе редко лежат в тех или иных местах случайно. Да и сигнализация удивительным образом включилась именно тогда, когда Ныка находился в хранилище. Ситуация отдавала подставой. Так кто же устроил западню? Заказчик? «Ясень Электроник»? Или неизвестное третье лицо? Предстояло разобраться…
Разумеется, у молодых людей, прибывших из далекого и очень далекого прошлого, не имелось при себе удостоверений личности, а без паспорта билеты на самолет не продавали. Ради получения поддельных документов для Алиры и Эдвина Нолан задействовал старые связи. В придачу журналист приобрел по дешевенькому мобильному телефону для юных друзей, чтобы всегда оставаться с ними на связи плюс прикупил им по комплекту одежды, соответствовавшей современной моде. Наверно, покажется смешным, но на Ульриха тоже пришлось запастись особой бумажкой, поскольку здоровенный древний фолиант мог вызвать некоторые вопросы у сотрудников таможни. Нолан предпочел не рисковать и раздобыл свидетельство, удостоверявшее право собственности на коллекционную антикварную книгу. Мера предосторожности – не более. Артефакты балансиров, в свою очередь, внешне походили на обыкновенные сувениры (подумаешь, ракушка или кусок янтаря!), а большинство из них и вовсе с легкостью помещались в карманах. Лишь фонарь и накидку Нолан сунул в отдельный пакет. А вот с армейским «Флоком», Алириным скрытым клинком или кинжалом Эдвина пассажиров точно бы не пустили в самолет, поэтому оружие осталось дома. Позже, при регистрации на рейс возникла непредвиденная проблема. В соответствии с правилами авиакомпании, рюкзак, в котором Эдвин переносил Ульриха, не относился к ручной клади, а сдавать разумный магический артефакт в багаж не особо хотелось. Во-первых, Ульрих бы обиделся. А во-вторых (и это, пожалуй, главная причина беспокойства), вышло бы крайне неудобно, если бы багаж с говорящим книгом по пути потерялся или где-нибудь застрял. Журналист вынужденно раскошелился, доплатив за перевозку рюкзака как ручной клади.
– Вот ведь паразиты! – негодовал потом Нолан. – Рюкзак-то маленький совсем! Ну сколько он весит? Килограмма два-три? Жулики!
Сидя в зале ожидания, Алира наблюдала в окно за взлетавшими и приземлявшимися самолетами. Стальные птицы с реактивными двигателями значительно превосходили в скорости и в маневренности старые паровые корабли, и все же уступали предшественникам в изысканности и немного в элегантности. Девушка с теплотой вспоминала приключения на «Горихвостке» капитана Марии Непредсказуемой. Современные аппараты не навевали романтических ассоциаций. Строгое утилитарное назначение и никакого ветра, красиво развевающего твои волосы во время прогулок по смотровой палубе.
Друзья загодя определили, к кому из балансиров направиться первому, доверившись воле случая и бросив жребий. Выбор пал на Голема, обитавшего в Драке, маленьком государстве к северо-востоку от Клада. Лететь предстояло недолго – порядка двух часов. Заняв кресла в салоне воздушного судна, Алира с Эдвином попросили Нолана рассказать в общих чертах о том, в каком состоянии находится мир будущего.
– С чего бы начать? – прикинул журналист. – Хм… раз мы вчера прибыли из 261 года, то кратенько обрисую события, произошедшие сразу после нашего с вами отъезда. Мы отчалили ранним утром и не услышали важного объявления по радио. Приготовьтесь, госпожа Алира. Эм-м… ваш Император умер.
– Я догадывалась…
– Нет, вы не поняли. Он в самом деле умер в 261 году.
– В смысле, до того он был жив? – уточнила Алира.
– Именно! Его тело обнаружил советник Прилус. Присяжные на дознании вынесли вердикт – смерть в результате длительной болезни.
– Какой конкретно? – полюбопытствовала девушка.
– А там сразу целый комплект установили. Врачи поражались, как Императору удавалось еще самостоятельно передвигаться при всех его болячках…
– Он и впрямь прожил сто шестьдесят шесть лет? – с явным недоверием задала наиболее животрепещущий вопрос Алира.
– Похоже на то. По крайней мере достоверных доказательств обратного не представлено.
– И все равно трудно поверить…
– Магия, – выдвинул версию Эдвин.
– Магия?
– В некоторых случаях и при должном мастерстве она способна продлевать жизнь. Полюбуйтесь на визов. Они в среднем живут дольше людей. Мои любимые колдуны древности – очень уж про них интересно читать – порой дотягивали до ста – ста двадцати лет.
– Но Император Клада, – возразила Алира, – является официальным наместником Порядка. Ему строжайше запрещено практиковать волшебство.
– А вы подумайте, – предложил юноша, – который из вариантов более вероятен: что человек естественным образом дожил до ста шестидесяти шести лет, или что могущественный правитель огромного государства – лицемер и обманщик.
– Второй, – усмехнувшись, без заминки ответила девушка. – Вы правы. Напильник Вильгельма как он есть. Примем самое простое объяснение. Продолжайте, господин Нолан. Мне не терпится услышать о дальнейших событиях.
– Ну, вернувшись домой, вы сможете их увидеть и даже поучаствовать в них. Хотя на вашем месте я бы уехал подальше от Первограда на… пару десятков годков, ибо после смерти Сида L наступило затяжное Смутное время. Объявив о кончине Императора, советник Прилус как-то незаметно ушел в тень и в развернувшейся позже борьбе за власть себя не проявил. Зато других претендентов оказалось пруд пруди! На политическую арену высыпали многочисленные наследники Сида, куча разнообразных самозванцев, а также всякие антимонархисты. Власть, точно горячая картошка, регулярно переходила из рук в руки. Подобные проблемы неизбежны, если один человек безраздельно правит страной на протяжении длительного периода, отрицая собственную смертность и свято веруя в свою исключительность. Сид L всерьез полагал себя незаменимым. Да и многие его сторонники придерживались аналогичного мнения. Кто лучше Императора? Конечно же, никто, ведь он не просто так Император. Он Император потому, что он… м-м… лучший! Замкнутый круг, друзья мои, замкнутый круг. За годы правления Сида идея непоколебимости авторитета Императора глубоко засела в сознании населения. Взять, к примеру, первоградское высшее общество. Госпожа Алира, насколько его представители поддерживали Его Величество?
– На словах – всецело, а в действительности – не знаю.
– Будучи по профессии журналистом, спешу заверить вас: слова – сильнейшее оружие. Слова – это основной инструмент пропаганды. Стоит повторять их почаще, и они из обыкновенных наборов букв постепенно превратятся в не подвергаемые сомнению истины. По сути, кто такой монарх? Человек, родившийся в определенной семье и занявший предпочтительное положении в очереди за наследством. Однако слова, складываемые в передающиеся из поколения в поколение идеи, наделяют монарха чуть ли не богоподобным статусом. И перед нами уже не просто человек, а могущественнейшее сверхсущество, отец народа, поборник справедливости, великий заступник, заботящийся о подданных и безжалостный к врагам, надежда и опора государства, вселяющая уверенность в завтрашнем дне. По-моему, Сид L максимально приблизился к созданию вокруг собственной персоны такого полубожественного ореола. Но беда заключалась не в том, что население проглотило сказку о достойнейшем Императоре. Не поймите меня превратно, Сид был выдающейся личностью. Спорной, неоднозначной, порой предельно жестокой и тем не менее выдающейся. Сложности начались, когда он сам уверовал в созданный своей же пропагандой образ. С тех пор Клад пребывал в состоянии стагнации, ошибочно принимаемом большинством за стабильность. Покуда Император оставался жив, ситуация находилась под контролем. А после объявления о его смерти мыльный пузырь стабильности лопнул, и на граждан разом обрушился весь поток до сих пор игнорировавшихся проблем, вылившийся в тяжелейший экономический, социальный и политический кризис. Власть должна быть сменяемой, так как люди по природе не вечны и не идеальны. С марси, лесовиками и визами – та же история.
– Хм… а Ульрих, похоже, бессмертен, – озвучил мысль Эдвин.
– Но не идеален, – добавила Алира. – И, слава Порядку, он не претендует на власть, иначе миру наступил бы кирдык.
– Я все слышу, – недовольно прошептал книг из рюкзака.
– Цыц! – велела девушка. – Ты неплохо справлялся с ролью молчаливой антикварной книги, не лишай нас и впредь удовольствия наблюдать за твоей непревзойденной игрой.
– Красиво же ты приказала мне заткнуться… Ладно, ладно… буду тише воды, довольна?
– Вода – не самая тихая стихия, – обратила внимание Алира. – Тебе знаком рев водопада?
– Хорошо, буду тише… света. Устроит?
– Вполне, – прикинув, согласилась девушка.
– И что происходило в Кладе дальше, господин Нолан? – спросил Эдвин.
– Преимущественно беспредел. Уровень преступности возрос. Грабежи, насилие и массовые беспорядки творились везде. Еженедельным новомодным развлечением стали публичные казни. Власть менялась часто, а прежнюю отправляли на эшафот. Должность главы государства успели примерить столь колоритные персонажи, как Генрих Кровавый, Кадоген Висельник, Лара Бессердечная, Жак Мучитель, Луи Расчленитель, Роксана Отравительница, Марк Мирный (самый страшный и безумный из всех – настоящий психопат!) и многие, многие другие. Наконец, терпящим убытки капиталистам надоела эта чехарда, и в 283 году они скинулись профинансировать движение республиканского генерала Шульца. Благодаря значительной материальной поддержке и пользуясь уважением у заколебавшегося от постоянной нервотрепки населения, генерал сверг самопровозглашенного – и не подумайте, я не выдумал сей титул – Мегаимператора Всея Клада А Впоследствии Мира И Целой Вселенной Рубероида I. Судя по имени и… регалиям правителя, осуществить переворот не представлялось трудным. Так завершилось Смутное время. После революции 261 года, коей мы с вами были свидетелями, СЛОН и Лимон создали самостоятельный Союз Восточных Республик (сокращенно – СВР). Год спустя объединились Восточный и Западный Трип. А в 265 году объявила о долгожданной независимости Кантория. Временным князем на четыре года избрали Яна Рыболова. В дальнейшем должность сохранилась. Колонии на Зеленом острове также, воспользовавшись переполохом, отделились от Клада, образовав суверенное государство Новую Зеляндию со столицей в знакомом нам Ромуальде. На отвоеванных у визов по итогам Войны Порядка против хаоса территориях острова Дракона сформировалась отдельная Речная Страна. Империя развалилась, и на ее останках возникла Кладская Республика. Первым президентом закономерно стал генерал Шульц, а вскоре на общенациональном референдуме приняли Конституцию. Политическая карта мира ощутимо преобразилась. Однако жить поодиночке государствам не хотелось. Развитие транспорта, связи и прочих технологий неуклонно вело к общей глобализации. Старый, но все еще действующий Договор о Селвике послужил юридической предпосылкой для создания экономического сотрудничества между Трипом, Кладом и Канторией. Затем случился Большое исход визов, заставивший людей напрячься. Под впечатлением от загадочного и непредсказуемого поведения синекожего народа желание сблизиться у человеческой расы лишь усилилось. Интуитивно люди чувствовали присутствие скрытой угрозы (а с учетом надвигающегося конца света, видимо, не зря) и поспешили упрочить союз. В начале IV века к Трипу, Кантории и Кладу присоединились Новая Зеляндия и Речная Страна. Румбия и сотрудничавший с ней Драк формально оставались в стороне, пускай Церковь Порядка под охраной Черного войска и принимала активное участие в обсуждении наиболее значимых вопросов. Поворотный момент наступил в 349 году. Экономический союз преобразовался в политический, и государства объединились в Конфедерацию, в состав которой вошли: Трип, Кантория, Кладская Республика, Румбия, Драк, Речная Страна и Новая Зеляндия. Черное войско приобрело статус своеобразной межнациональной гвардии, обеспечивающей правопорядок на территории всей Конфедерации. К сожалению, с распространением частных военных и охранных компаний, горцы все чаще сидят без дела. На сегодняшний день к Конфедерации так и не примкнули Селвик (нейтралитет во всем), Союз Восточных Республик (он является лидером в области промышленного производства и экономически независим), Федерация Островов Края Земли (образована тесно пообщавшимися с людьми марси, главная статья доходов – туризм) и Северные Земли Визов. Последние сформировались из остатков древних визских поселений на острове Дракона. Живет там совсем мало народу – из тех, кого, видимо, не позвали совершить Большой исход. Состояние у них не ахти. Я бы описал его как устойчивую медленную деградацию. Колдовать – не колдуют. Товары не производят. Сельское хозяйство – на уровне прошлой эры. Культура не развивается. Торговать толком не выучились. Грустное зрелище.
– А вы сами бывали в этих Северных Землях? – поинтересовался Эдвин.
– Доводилось. В 387 году у них произошло восстание. К власти пришли радикалы, планировавшие атаковать Люциус, куда переехала вся администрация Конфедерации. Город построили у границы Речной Страны и Северных Земель на специально выкупленном у визов за приличную сумму участке. Получилось, что Люциус расположился вне территории какого-либо из государств-членов Конфедерации и целиком принадлежит непосредственно ей, а не отдельно кому-то из входящих в нее участников. В Люциусе разместились Президент Конфедерации, выполняющий в большей степени представительские функции – ленточки разрезает, приветственные слова произносит, руки жмет, красиво улыбается и фоткается со всеми подряд; Согласительный Комитет – конфедеративный парламент, занимается законотворчеством; Конституционный Суд Конфедерации – высший судебный орган, проверяющий законы на соответствие Конституции; Прокуратура Конфедерация, осуществляющая надзор за соблюдением законодательства; Следственный Комитет Конфедерации – нечто вроде международной полиции и Комитет Министров – высший орган исполнительной власти. Вместе они составили систему, в просторечии именуемую правительством Конфедерации, и потенциально подвергались опасности в случае нападения визов-радикалов на город. Поэтому в качестве превентивной (как нам тогда сказали) меры на север послали войска. Операция называлась «Снежная буря». Перед солдатами поставили цель – найти и обезвредить террористов, угрожавших населению Конфедерации. Я… тоже принимал участие в той кампании. На деле ситуация была, мягко говоря, несколько сложнее… Не хочу вдаваться в подробности… Да и не стану… Короче, после «Снежной бури» я подал в отставку и через десяток лет сумел-таки освоиться с жизнью на гражданке. Оно того стоило. Возвращаться на службу я не горю желанием.
– И чем же закончилась война на севере? – подтолкнул товарища к завершению повествования юноша.
– Не война, а локальный конфликт, – поправил Нолан.
– А какая разница?
– Да, признаться, по сути никакой. Отличия, наверно, в методах и средствах, применяемых в ходе кампании. Война в будущем малость… изменилась, господин Эдвин. Вернее, приносимые ею бессмысленное насилие и тотальное разрушение никуда не исчезли, зато она во многих отношениях превратилась в более скрытную. Раньше на войне все было ясно. Вот мы, вот враг. Вот наша армия, вот армия противника. В конечном итоге после множества боев за различные стратегические точки случалось одно заключительное сражение, победитель в котором с высокой долей вероятности становился и победителем в войне. Прежние вооруженные конфликты при всех их ужасах отличались… понятностью, что ли… Участники битв точно знали, с кем борются. Пускай и не всегда ведали зачем. А сейчас такое ощущение, будто все перманентно воюют со всеми, одновременно поддерживая со всеми же дружеские отношения.
– Это как? – не уразумела Алира.
– На публике все кругом товарищи и партнеры. Но каждый втайне мечтает обставить остальных и занять место мирового лидера.
– А! – догадалась девушка. – Прямо как в высшем обществе! С виду знатные аристократы взаимно вежливы и приветливы, а на самом деле готовы вцепиться друг другу в глотку.
– Примерно, – подтвердил Нолан. – Основная причина создания той же Конфедерации кроется не в стремлении жить в мире и согласии. Отдельные государства элементарно не выдерживали конкуренции, навязываемой Союзом Восточных Республик. Тут сработал принцип «Враг моего врага…», иначе Трип никогда бы не присоединился к коалиции, куда, скажем, входит Клад. Кроме того, не только государства соревнуются между собой. К игре присоединились и транснациональные корпорации – огромные влиятельные компании, способные контролировать принятие решений на самом высоком уровне. Для сравнения: по прикидкам аналитиков стоимость активов находящейся в частных руках «Тогор Энтерпрайз» превышает годовой государственный бюджет Драка. Корпорации зачастую преследуют на международной арене личные цели, и с подобным положением поневоле приходится считаться. Однако, помимо состава участников, как я уже упомянул, главным образом поменялся набор методов и средств ведения войны. На первый план сегодня выходит информация. Здесь усердно работают телевидение и Комсеть. Никто не чурается распространять заведомо ложные сведения, чтобы манипулировать общественным сознанием и обернуть его себе на пользу, привлечь на свою сторону население. В истории со «Снежной бурей» произошло нечто похожее. Конфедеративные СМИ представили визов в образе страшных негодяев, террористов и душегубов. А в реальности в стане противника воевали и безбашенные радикалы-отморозки, и вполне нормальные ребята, не желавшие ни на кого нападать. Вторых, кстати, наличествовало много больше. Но пострадали в результате и они. Наша пресса позиционировала вторжение войск Конфедерации в Северные Земли с точки зрения самообороны, а информационное агентство визов подавало те же новости как необоснованное проявление агрессии и вопиющее нарушение границ суверенного государства. И кому в итоге верить? Исходя из неоднозначности ситуации, СВР занял промежуточное положение: на словах вроде бы и осудил действия Конфедерации, а предпринимать толком ничего и не предпринял, даже вразумительных санкции не ввел, хотя мог бы, но в тот момент это было Союзу экономически невыгодно. И еще немаловажный штрих. Вооруженную операцию на севере наши СМИ никогда не называли войной, а окрестили локальным конфликтом. Почему? Ну, война – термин очень уж жесткий. Общественность его не любит, так же как не любит правительства, развязывающие войны. Локальный конфликт – дело другое. Это не война. Это локальный конфликт. Плевать, что суть осталась прежней. Зато вывеска сменилась на менее страшную. Куда отправили солдат? На войну? Жуть! А, не. Их послали урегулировать локальный конфликт. Тогда ладно. Удачи вам, ребятки! Повеселитесь там от души! И обязательно привезите сувенирные магнитики на холодильник… Грубо говоря, войне устроили ребрендинг, подменив в умах населения устаревший неблагозвучный термин, вызывавший неприятные ассоциации, безликим отстраненным словосочетанием. Приведу аналогию. Существует понятие «пытки». Пытки – явление исключительно негативное и порицаемое. А существует расплывчатое понятие «допрос с пристрастием». Ежели нам невтерпеж кого-нибудь попытать, но мы боимся осуждения наших действий, то просто в официальных документах и публичных выступлениях заменяем «пытки» на «допрос с пристрастием», и проблема отпадает! В мире много информации. Обалденно много. Живому существу адекватно усвоить столь огромные объемы неимоверно тяжело. Современный тип мышления в значительной степени направлен на восприятие каких-то внешних признаков, нежели на глубинное изучение подробностей. Человек краем уха услышал о локальном конфликте на севере, и думает: «Хорошо. Локальный конфликт. Завтра-послезавтра его уладят. Спокойно живем дальше». Мало кто читает в новостной ленте написанное между строк. Времени банально не хватает детально анализировать каждое новое сообщение. Хочу подчеркнуть: люди не стали глупее – это доступной информации стало гораздо больше. Нельзя усвоить все подряд. Надо выбирать. СМИ иногда целенаправленно «помогают» сделать выбор. Заголовок «Вспыхнул очередной локальный конфликт» звучит обыденно-нейтрально по сравнению с «Началась крупномасштабная война». К локальным конфликтам народ уже успел привыкнуть. Новости о них не вызывают особого ажиотажа. Создаются идеальные условия для проведения секретных боевых операций, на которые населению плевать. Замыслит некая мегакорпорация установить контроль над чужой нефтяной скважиной, выдумает дурацкий предлог, обратится к услугам частной военной компании, та пошлет солдат, хозяев скважины прогонят, и миссия выполнена! Причем подавляющему большинству населения нашего спутника будет все так же плевать. Ни условная мегакорпорация, ни частная военная компания не подвергнутся осуждению, пускай фактически они совершили наглый рейдерский захват прибыльнейшего многомиллиардного предприятия. Как же так? А опять-таки всем просто плевать. Я, конечно, малость утрирую и упрощаю, и все же в целом картина современного мне мира вырисовывается такая. У кого есть деньги, у того есть власть. А у кого есть власть, обеспеченная деньгами, тот вправе делать практически что угодно. Справедливости ради, к открытым противостояниям прибегают относительно редко. Зато тайная слежка, промышленный шпионаж, подкуп и прочие маскируемые от посторонних глаз деяния творятся повсеместно. Старая война – прямолинейна. Новая – хитрая и изобретательная. Возможно, поэтому традиционно полагавшиеся на грубую силу горцы переживают не лучший период.



