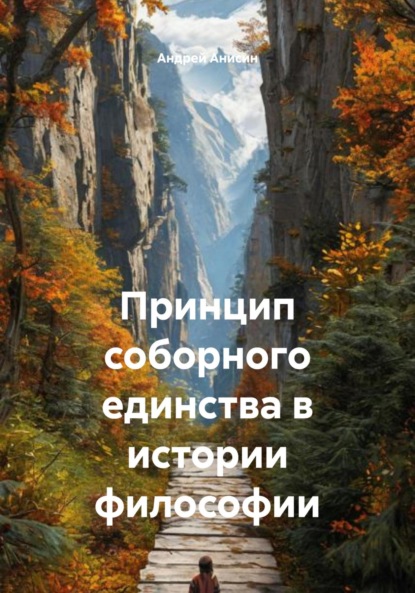
Полная версия:
Принцип соборного единства в истории философии
Третий момент платоновской социальной философии, имеющий значение в качестве выражения и осмысления темы соборного единства, связан с «разделением труда» в «идеальном государстве» и с иерархическим строением этого государства. Разделение труда при этом доходит до самой узкой специализации: «Чтобы у нас успешнее шло сапожное дело, мы запретили сапожнику даже пытаться стать земледельцем, или ткачом, или домостроителем; так же точно и всякому другому мы поручили только одно дело, к которому он годится по своим природным задаткам, этим он и будет заниматься всю жизнь, не отвлекаясь ни на что другое, и достигнет успеха, если не упустит время»47. Цель и смысл узкой специализации определяются, таким образом, во-первых, «природной заданностью» человека, который мыслится как некий «частичный человек», заранее уже приспособленный к определенному виду деятельности, и именно в этом виде деятельности предназначенный обретать полноту самореализации. А во-вторых, дробная и строгая специализация необходима для обеспечения целостности государства: «Каждого … надо ставить на то одно дело, к которому у него есть способности, чтобы, занимаясь лишь тем делом, которое ему подобает»48.
Античные принципы социального единства тяготеют к органицизму, определяясь в этом общей космоцентрической установкой древнегреческой культуры. Именно Космос как живой мировой организм является архетипом всего греческого мировоззрения. В то же время вполне ясно выражается в античной культуре и тема индивидуальной свободы. Это, конечно, еще не совсем тот масштаб темы свободы, который делает ее одной из центральных в западноевропейской мысли, но именно на свободном подчинении основывается политическое сообщество, именно в наличии этой политической свободы греки видят свое превосходство перед варварами, обреченными на деспотию.
Задачу устроения жизни так, «чтобы… каждый представлял бы собою единство, а не множество», античность вполне ясно ставит, ожидание того, что при этом «и все государство в целом станет единым, а не множественным», вполне ясно высказывается, но указать онтологические основания для решения этой задачи и исполнения этого ожидания античность оказывается неспособна. Античная философия, таким образом, демонстрирует скорее еще только подступы к проблеме соборного единства, чем позитивное раскрытие принципов этого единства. И все-таки, конечно, значимость этой первой постановки проблем социальной философии чрезвычайно велика. Нигде в иных мировоззренческих парадигмах ни до того, ни после проблемы социальной философии фактически не ставились. Социальная реальность нигде больше не становилась самостоятельным предметом философской мысли. Даже в Древнем Китае, где социальная обусловленность философии была более чем актуальна49, понятие собственно социальной реальности в мышлении просто отсутствует.
Такое утверждение, конечно, звучит слишком смело, возражения против него напрашиваются сами собой. Попробуем, все-таки, объясниться и уточнить, что мы имеем в виду, говоря о социальной реальности. Прежде всего, это понятие предполагает, что общественная жизнь имеет некий особый онтологический статус, то есть она, конечно, не может быть обособлена вовсе от общей принципиальной онтологии, но бытие общества есть некий иной, особый род бытия, чем бытие мира или отдельного человека. Понятие социальной реальности, таким образом, предполагает и наличие неких отношений между обществом и миром, обществом и отдельным человеком, обществом и Абсолютом (даже!), – отношений, которые означают онтологическую сопоставимость сторон. Особый онтологический статус общественной жизни выражается, во-первых, в том, что общество выводится из-под власти естественных законов, обретает автономию относительно природы (оно отныне есть autonomon – нечто, управляемое своими собственными законами). А во-вторых, социальная реальность мыслится как результат человеческой не только бессознательной, но и сознательной, то есть творческой деятельности, – эта реальность не вытекает сама собой из природы (мира ли, человека ли), она выстраивается людьми.
Такого понятия социальной реальности, такого взгляда на общество мы не найдем нигде за рамками европейской мыслительной традиции. Впрочем, даже и в Европе далеко не все мыслители так смотрели на общество. В античной философии такой подход к пониманию общественной жизни еще только формируется. Если оценивать, что древними не сделано, – конца упрекам не будет, но если посмотреть, что им удалось сделать, – нужно просто склонить голову перед величием мысли.
Менее всего можно видеть начатков философии соборности в антропологических построениях античных философов. По крайней мере, гораздо меньше, чем в рассмотренной выше космологической и социально-философской проблематике. Единственный антропологический мотив созвучный теме соборного единства – гармония души и тела, их принципиальное различие и неразрывное единство. Однако этот мотив вовсе не столь последовательно выражен в Древней Греции, зато очень ясно и пожалуй даже чаще звучит противоположная мысль, – и у Платона особенно, – мысль о вражде души и тела, человек в качестве единства души и тела мыслится как неудачная форма бытия, – не гармония, а разлад заключен в этом единстве.
Платон устами Сократа ясно определяет: «Мы никогда не сможем в достаточной мере достигнуть того, к чему стремимся и что мы называем истиной, пока у нас будет тело и пока к душе будет примешано это зло. И в самом деле, тело создает для нас бесчисленные препятствия из-за необходимости питать его; а если, сверх того, постигнут нас еще какие-либо болезни, то они мешают нам стремиться к сущему. Тело наполняет нас вожделениями, страхами, всякого рода призраками, пустяками. И правильно говорят, что, действительно, из-за тела нам никогда не удается ни о чем даже поразмыслить. Только тело и присущие ему страсти порождают войны, восстания, бои; ибо все войны ведутся из-за приобретения денег, а деньги мы вынуждены приобретать ради тела, рабствуя пред уходом за ним»50.
Такова общая парадигма античного идеализма, – борьба души с телом «за свободу и независимость»: тело вообще не есть жизнь с этой точки зрения, soma (тело), по многозначительному каламбуру Платона, есть sema (могила), надгробие над жизнью. В античном же материализме мотив борьбы души и тела отсутствует, но означает этот факт вовсе не мир, а капитуляцию перед телесными чувствами и потребностями, – «рабствуя пред уходом за ним». Античный идеализм не способен обеспечить жизненное единство той иерархии человеческой природы, которую он устанавливает. Античный материализм не желает признавать сверхприродную иерархию в человеке, сводя душу к обслуживанию тела. Это сведение не носит еще столь грубого характера, как в материализме XVIII века, но именно удовлетворенность телесных потребностей и душевное равновесие признаются необходимыми и вполне достаточными целями жизни человека.
Особенно следует отметить идею «микрокосмичности» человека. В ней часто видят свидетельство высокой оценки греками места человека в мире и признание чуть ли не равного онтологического статуса человека и мира. На наш взгляд, однако именование человека «микрокосмом» подчеркивает вовсе не величие человека (идея, которой в античности, по существу, вообще не было), и не столько его совершенство (хотя этот момент в какой-то мере присутствует), сколько всецелую принадлежность человека «большому» Космосу, всецелую определенность человека ритмами жизни этого Космоса. Человек есть «микрокосм» в «макрокосме» в том же смысле, в каком клетка организма представляет собой тоже маленький, но целостный организм. Не стоит, однако, забывать, что клетка организма не способна существовать в качестве одноклеточного организма, хоть она и образует некий организм «в себе», но живет не «для себя», а для того Целого, в которое она входит в качестве клетки. То же и человек в мире для античных мыслителей.
Выше были рассмотрены античные предпосылки разработки идеи соборного единства. Вторым основанием европейской философской традиции, несомненно, является библейское мировоззрение. Его определяющее влияние реализовывалось главным образом через христианство, однако не только учение о Церкви, рассмотренное в предыдущем параграфе, имеет значение для развития идеи соборности, но и более ранние и – если можно так выразиться – более основополагающие установки библейского, еще даже и ветхозаветного мировоззрения.
Прежде всего, надо, конечно, сказать о том, как присутствует в рамках библейского мировоззрения тема Абсолюта. Здесь Абсолют есть не «что», а «Кто», речь идет не о безличных мировых «субстанциях» или абсолютно запредельных, но столь же безличных духовных «сущностях», речь идет о Боге-Личности. Бог – не «сущность», а Сущий. Личностный способ бытия утверждается, таким образом, на предельном онтологическом уровне. И разделение, и единство, и вражда, и любовь получают здесь статус не безличных «мировых сил», а личностных отношений на всех уровнях онтологии. Тема личности должна быть дополнена еще одним замечанием. Мало сказать, что Бог – Личность, в свете новозаветного мировоззрения Он есть Три Личности, единые по Существу. Тайна Троицы, несомненно, составляет один из наиболее важных истоков осмысления идеи соборности и философской разработки принципов соборного единства.
Далее, Бог библейского мировоззрения есть Творец по отношению к миру. Идея творения, как и идея личности, является принципиальным онтологическим основанием философской разработки темы соборного единства. Идея творения, во-первых, предполагает всецелую определенность всякого бытия Божественным сверхбытием: все, что есть, только творческой силой Божьей определено к бытию, и ничто иное не лежит в основании бытия. Творение совершается «из ничего», утверждается онтологический монизм, это во-первых.
А во-вторых, идея творения, напротив, предполагает принципиальный дуализм бытия: Бог не есть мир, и мир не есть Бог. Есть Бог, и есть мир, но – в том смысле, как есть Бог, мира нет, а в том смысле, как есть мир, Бога нет. Сознание европейца уже так привыкло к идее творения мира, что утратило способность видеть парадоксальную сверхразумность этой идеи и философскую ее ценность и глубину. Мир не имеет никакого другого источника своего бытия, кроме Бога, но мир не имеет в себе ничего божественного по природе, – это не может просто укладываться в голове.
Разуму было бы понятно, если бы платоновский демиург создал мир из вечно существующей материи, это даже не сильно противоречит логически необходимой «полноте бытия» в Боге, поскольку материя – это лишь потенция, возможность настоящего бытия. Главное, что в этом случае мир имел бы оправдание своему онтологическому отличию от Бога, он бы имел причиной не только волю Творца. Была бы понятна разуму и противоположная логика, если бы мир проистекал из Бога неоплатонической эманацией, а вопрос, почему Абсолют «деградирует» с трансцендентных высот до грубой физической реальности, это вопрос уже следующий, и его можно решать очень долго и продуктивно. А главное, что мир в этом случае сохранял бы принципиальное онтологическое тождество с Богом, и монизм «Единого» оставался бы неколебим.
Идея творения отвергает и тот, и другой вариант «логичных построений», настаивая на парадоксе. И именно этот парадокс создает условия возможности развития идеи соборного единства бытия в истории философской мысли. Содержательное раскрытие этих вопросов составит один из предметов дальнейшего анализа, пока же предварительно отметим следующие моменты.
Мир рисуется в Библии живым, творение откликается на голос Творца: «И сказал Бог: да произрастит земля … И произвела земля …» (Быт. 1, 11-12). Однако при этом «одушевленность» мира (именно в кавычках) в библейском мировоззрении коренным образом отличается от одушевленности (буквальной) античного Космоса. В Библии «одушевленность» мира является поэтической метафорой. Тварный мир, описываемый в Библии, отзывается на призыв Творца, славит Его, не будучи населен божествами. В отличие от античного Космоса, который есть замкнутый внутрь себя мировой организм, библейский мир разомкнут по онтологической вертикали, его «живость» есть следствие соподчиненности всех и каждого – Творцу. Единство мира обеспечено тем, что каждая вещь «обращена лицом» к Богу. Именно такая логика единства создает возможность развития в философском мышлении идеи соборности.
Помимо этих космологических предпосылок, христианство и на социально-философском уровне создает основания для развития идеи соборного единства. Эти основания образует Церковь, как особый духовный организм. В сфере антропологической мысли также проявляются мотивы соборности в виде утверждения гармонической иерархии духа, души и тела. Приходится, однако, констатировать, что эти основания так и остались невостребованными западной мыслью, принципы соборного единства не стали предметом философской мысли Запада.
Причины, по которым идея соборности так и не была развита в рамках западноевропейской философии, лежат, видимо, в самих духовных и мировоззренческих основаниях западной культуры. Эти причины в главных своих чертах общеизвестны, хотя содержательный их анализ и доказательное выявление их действия на протяжении истории западной мысли мог бы составить задачу отдельного объемного историко-философского исследования. Мы же возьмем на себя смелость обозначить эти самые основные черты.
Западная культура является в духовном смысле наследницей Рима, она воспитана латынью, которая на многие века стала на Западе языком богословия и учености и сформировала, таким образом, весь строй и направление западной мысли. Характеризую кратко этот строй, можно сказать, что он имеет рационально-юридическую основу. Военная сила, армейская дисциплина и талант администрирования составили основу политической мощи Рима, римское право стало непреходящим образцом рационально-правовой организации жизни. К вопросам метафизическим римская культура была вполне равнодушна, довольствуясь в области философской мысли повторением античных образцов. Тот же самый характер приобрела и культура Западной Европы: на Западе первых десяти веков христианства мы почти не находим мыслителей, которые философствовали бы, исходя из христианских идей. Исключения в виде Августина и Боэция, пожалуй, только подтверждают эту общую картину.
Аврелий Августин, действительно, представляет собой яркий пример именно христианского философствования, его труды демонстрируют, действительно, некоторое принципиально новое и свежее содержание философской мысли. Но в этом своем значении Августин одинок, даже Боэций, будучи, надо полагать, искренним христианином и написав некоторые трактаты по тринитарной и христологической проблематике, является в своей философии не столько христианским, сколько «позднеантичным» мыслителем, – ничего принципиально нового, никакой оригинальной глубины и свежести не сообщает христианство его мысли. Комментирует ли он систему Порфирия или догмат Троицы, говорит он о двух природах Христа или о логике Аристотеля, – строй речи и мысли, весь ее инструментарий один и тот же. Христианство в Западной Европе так и не оплодотворило мировоззренческо-метафизическую философскую мысль, оно осталось на уровне внешних форм организации жизни. Этого, конечно, нельзя сказать о каждом европейце, но именно таков общий дух Запада.
Христианский Восток представляет в этом отношении другую картину. Здесь именно первые века христианской эры являются временем радикального обновления всей культуры не только на поверхности, но и в самых метафизических ее основаниях. Можно обозначить это время как «эпоху Вселенских Соборов», или назвать это «патристикой», временем деятельности «отцов Церкви». А суть этой эпохи заключается в преображении всей духовной и интеллектуальной жизни через освоение библейских, христианских идей. Все известные ереси возникали на христианском Востоке, в Византии, и это естественно: тот, кто ищет способы выражения неведомого доселе духовного и интеллектуального опыта, – рискует ошибиться, для творческой мысли возможен срыв и неудача, а не ошибается тот, кто не делает, неудач не бывает только у того, кто идет по чужим следам. Возникновение ересей и их преодоление – это и есть движение мысли за рамки собственной ограниченности, всякая ересь есть попытка старыми словами и схемами выразить принципиально новый смысл, в эти слова не вмещающийся, и этот конфликт требует для своего решения творческого прорыва.
Один из видных исследователей средневековой философии пишет: «Начиная с IX века, дух самостоятельного исследования покинул греков»51. С этим утвреждением можно, конечно, поспорить, указав, например, на поэтико-мистические творения Симеона Нового Богослова (начало XI века) с одной стороны, и на противоположные по стилю схоластические споры вполне «философской» проблематики XI – XII веков с другой, а также на творчество Григория Паламы (XIV век), сочетающее в себе и мистическую, и схоластическую глубину. Можно вспомнить и Николая Кавасилу (тот же XIV век), труды которого, будучи переведены на латынь цитировались на Западе и в XVII, и в XVIII веках. Однако определенная правда в словах Альберта Штёкля присутствует: интеллектуальное и общекультурное доминирование Византии постепенно падает, начиная с VII века, что связано и с внутренними проблемами империи, и с изменившейся геополитической ситуацией (возникновение и агрессивное распространение ислама, например). Кроме того, с VIII века нарастает изоляция Запада и Востока, что также не пошло на пользу культурному развитию ни там, ни там. XIV век стал временем окончательного обособления культурно-исторических путей: на Западе начинается Возрождение, а на христианском Востоке происходит паламистский синтез, явившийся высшим пунктом христианской богословско-философской мысли. Как пишет известный исследователь, «в то время, как на Востоке снова расцвела святоотеческая мысль, направленная к синтезу человеческого и божественного, западная мысль навсегда разделалась с Богом, поместив его на небесах и занявшись решением человеческих проблем без Него»52.
И самое главное, – покинул ли в какой-то мере «дух самостоятельного исследования» греков, начиная с IX века, или вовсе не покидал, – по крайней мере, до VIII века этот дух очевидно был им присущ, и именно он определял интеллектуальное развитие Европы. Именно в восточной патристике мы находим творческое раскрытие уникальной философской глубины христианских идей, именно это раскрытие имеет первостепенную значимость для разработки идеи соборности в качестве философского принципа. Духовной наследницей восточно-христианской мысли стала русская культура и русская философия, в ней святоотеческое наследие восточной Церкви обрело в какой-то мере свое продолжение.
§ 3. Метафизические идеи христианской патристики как непосредственное основание понятия о соборном единстве
Религиозный опыт и религиозные догматы представляют собой несомненный и серьезный философский интерес. Даже учитывая то, что религиозный выбор и философская мысль подразумевают существенно разные способы постановки и решения мировоззренческих проблем53, эти способы неразрывно связаны друг с другом идейно и содержательно. Если богословие есть непосредственное облечение в слова религиозного опыта, то для философии этот опыт всегда имел, скорее, значение почвы и повода для собственной мысли.
Таким духовным основанием философской разработки темы соборности в истории философской мысли является, прежде всего, христианский, православный религиозный опыт. Исходя из этого наиболее чистого опыта соборного единства возможно стало философское прояснение тех онтологических начал соборности, которыми живет и существует каждый человек, и всякое сообщество, и весь мир.
Христианство имеет совершенно уникальную идею относительного Божественного Сверхбытия, – это догмат Троицы. Несмотря на многочисленные попытки вывести эту идею из философствующего или фантазирующего разума или свести ее к каким-нибудь архетипам психики, несмотря на попытки растворить эту идею в аналогиях с внехристианскими мифологическими «троицами», – все-таки идея Триединства Бога, рассмотренная по существу, стоит совершенно особняком и остается совершенно непостижимой. Собственно говоря, именно непостижимость Бога этот догмат выражает, прежде всего. Как пишет современный богослов: «В своем трактате "О Божественных именах", рассматривая приложимое к Богу имя "Единое", Дионисий показывает его недостаточность и противополагает ему другое "наивысочайшее" имя – Святая Троица, говорящее о том, что Бог не единство и не множество, но что Он превосходит эту антиномию, будучи непознаваемым в том, что Он есть. Если Бог откровения не есть Бог философов, то именно сознание Его абсолютной непознаваемости проводит грань между двумя этими мировоззрениями»54. Если вообще основным источником познания в рамках религиозного мировоззрения признается откровение свыше, то тем более, догмат Троицы, с точки зрения христианства, основан исключительно на том, как Само Сверхбытие открывает Себя человеку.
И все-таки, догмат Троицы, – не принадлежа сам по себе к сфере философской мысли, – имел достаточно большое значение также и для философии. Догмат Троицы невозможно ни обосновывать, ни развивать средствами философии, но он может быть и являлся в действительности неким внеположенным основанием и ориентиром философской мысли. Такие внеположенные основания у философии должны быть, и они всегда есть, и, располагаясь сами вне философского дискурса, эти основания должны быть при этом определенным образом освоены философией. Целью такого освоения является не включение их внутрь философского знания, а прояснение их существенной значимости для движения философской мысли.
Переходя к проблеме философского освоения догмата Троицы, необходимо выяснить как собственный смысл этой идеи, так и возможную ее значимость для философии. Не углубляясь излишне в богословские тонкости, начнем с краткого изложения основных пунктов Троического богословия. Вот как выглядит идея Троицы в «схоластическом», то есть в школьно-учебном изложении:
«Догмат Святой Троицы заключает в себе две основные истины:
А. Бог есть един по Существу, но Троичен в Лицах, или, иными словами: Бог – Триединый, Триипостасный, Троица Единосущная.
Б. Ипостаси имеют личные, или ипостасные, свойства: Отец не рожден. Сын рожден от Отца. Дух Святой исходит от Отца55».
Следует отметить, что термин «Лица Троицы», хотя и используется в православном богословии, однако более точным является термин «Ипостаси», и даже в том случае, когда о «Лицах» говорится, смысл этого понятия восходит к греческому hypostasis. «Ибо понятие «лица» лишено той определенности, которая вносится в понятие «ипостаси» самой этимологией этого слова, – hypostasis от hyfistemi (= hypo+istemi; срв. hyparxis, hypokeimenon) причем суффикс «sis» придает коренному слову оттенок статический, но не динамический (не процессуальный)»56. (Словарные значения приведенных слов: hypostasis – подставка, основание, в пер. смысле сущность, а также непоколебимость, стойкость, мужество; hyfistemi – подставлять что-либо под что-либо; hypo+istemi – под + ставить, устраивать; hyparxis – существование на лицо, бытие в наличности; hypokeimenon – страд. прич. от hypokeimai, находиться пол чем-либо, лежать в основании, быть подчиненным, – то есть, подлежащее, основа). Употребляя слово «Лица», можно легко соскользнуть в савеллианство, утверждающее, что находясь «в‑Себе» Бог есть единое и простое Существо, выходя же из этого покоя для творения и промышления о мире, Он является в трех различных формах, «под тремя видами», то есть в трех «лицах», понимаемых как «личины».
В основе догмата Троицы, как он осмыслен отцами-каппадокийцами, Василием Великим и Григорием Богословом, лежит различение понятий hypostasis и ousia. И то, и другое слово обозначает «сущность», однако имеется некоторая разница в оттенках смысла, позволяющая на греческом языке эти понятия развести. «То, что он (Василий Великий – А.А.) называет «ипостасью», есть в существе дела «сущность» или «первая сущность», prote ousia Аристотеля. Тем самым термин «сущность» (ousia) освобождается для однозначного определения того, что Аристотель называл «второй сущностью», то есть для общего или родового бытия, для качественной характеристики сущего»57. При этом надо учитывать, что для Аристотеля вполне реальным существованием обладает только «первая сущность», «вторая» же представляет собой, в конечном счете, абстракцию. Каппадокийские богословы утверждают и для «второй» сущности вполне реальное, хотя и трансцендентное существование. Единая Сущность Бога не есть абстракт, присущий по отдельности каждой из Трех Ипостасей, но не существующий как реальное конкретное бытие. В этом пункте можно видеть важную особенность Троического богословия и его новизну в чисто философском смысле. Кроме того, значимость каппадокийского богословского синтеза состояла еще и в том, что понятие ипостаси стало основой разработки понятия о личности, – категории совершенно чуждой, и даже просто незнакомой ни греческой философии, ни восточной духовной традиции, но одной из основополагающих ценностей европейской культуры.



