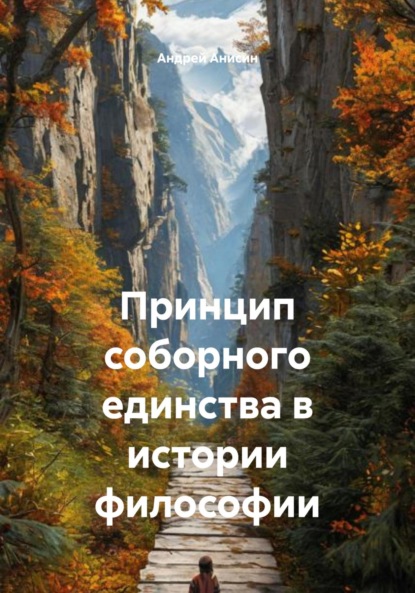
Полная версия:
Принцип соборного единства в истории философии
Здесь речь идет, конечно, не о личной безгрешности или достоинствах папы, но имеется в виду исключительная роль этого места (римского престола) в католическом сознании. Как пишет на эту тему Л.П. Карсавин, «папа, не как человек, а как преемник Петра и орган Святого Духа, обладает безусловною, абсолютною истиной во всей ее полноте. Как обладатель истины, он принадлежит к невидимой Церкви и соединяет ее с видимой.(…) Но, когда папа действует не в качестве пастыря и учителя вселенской церкви, не при условиях, указуемых догматом непогрешимость, он, как и всякий человек, может ошибаться. И поэтому, сколько бы ни приводилось в пример папских заблуждений и ошибок, догмат непогрешимость остается непоколебленным»13.
Апология католичества часто строится на утверждениях, что папа римский вовсе не занимает в ней столь исключительного положения, какое ему приписала молва, что непогрешимость – а точнее безошибочность – его во многом условна, а роль его сводится к внешнему выражению внутреннего единства Церкви. Особенно такой ход мысли характерен для русских мыслителей, испытывающих симпатии к католицизму. Вот что пишет, например, В.С. Соловьев: «Необходимость объединительного центра (centrum unitatis) и первенствующего авторитета в земной Церкви вытекает не из вечной и безусловной сущности Церкви, а обуславливается ее временным состоянием, как Церкви воинствующей. Отсюда ясно, что преимущества центральной духовной власти не могут распространяться на вечные основы Церкви. Первая из этих основ есть священство, т.е. преемственный от апостолов дар рукополагать других в священные должности, и в этом отношении носитель центральной власти, скажем папа, не может иметь никакого преимущества перед другими епископами (…) Что касается до другой основы Церкви – таинств, то в совершении их папа не может иметь никакого преимущества и перед простыми священниками. Наконец, что касается до третьей основы Церкви – откровенной истины христианства, то здесь папа не может иметь никакого преимущества даже перед простым мирянином. Иметь в своем исключительном владении и распоряжении истину Христову, так же мало принадлежит папе, как и последнему мирянину. (…) Поэтому, когда папу называют Главою Церкви, то это во всяком случае есть выражение неточное»14.
В своем апологетическом порыве и для пущей красоты схемы Соловьев допускает небольшую неточность относительно «второй основы», забывая, что у католиков и миропомазание (конфирмацию) не может совершать простой священник, а только епископ, и весьма большую неправду, говоря о «третьей основе», уравнивая папу в правах даже и с «последним мирянином» в вопросе обладания истинами веры, тогда как мирянам и Библию-то читать было нельзя, согласно декрету папу Григория IХ (1231). До II Ватиканского Собора, который мирян допустил к чтению Библии, в то время, когда Соловьев писал свою статью, оставалось еще почти 80 лет. А в церковной иерархии, по учению католицизма, от ступеньки к ступеньке возрастает «charisma veritatis» – благодатный дар истины, находящий на римском престоле свое полнейшее выражение.
Фактически Соловьев приписывает католикам восточно-православные взгляды на личность папы, отождествляет их отношения к папе с отношением восточных христиан к своим первоиерархам. Восточная Церковь ведь тоже не прочь наградить одного из патриархов (Константинопольского) титулом «Вселенский», не связывая, правда, с этим наименованием никаких юридических преимуществ перед другими патриархами и даже епископами. А если у католиков другое понимание Церкви и места первоиерарха в ней, то этих различий не устранить, просто их игнорируя.
В книге епископа Буго «Церковь» (1922 г.), одобрительно встреченной Ватиканом, папа римский приравнивается даже к таинству Евхаристии: как в Святых Дарах причастия под видом хлеба и вина реально присутствует Христос, так и в папе Он реально присутствует под покровом человека. Притом, если в первом случае Он «нем», во втором Он «устами Папы преподает слово Истины, неизменное и непогрешимое»15. Произведенная параллель очень многозначительна: Евхаристия является центральным таинством Церкви, ибо «все другие службы церковные суть только приготовительные моления, сила которых и конец совершаются в Литургии»16, тогда как «Божественная Литургия представляет эту самую вечерю Господню (Евхаристию – А.А.), – только, для большего назидания нашего, сложенную с некоторыми песнопениями и молитвами»17.
Евхаристия, по существу, есть церквеобразующее таинство, есть актуализация самой Церкви: приобщение Телу и Крови Господним, как реальное единение со Христом является и основой, и смыслом существования Церкви как таковой. «Церковь есть дело Боговоплощения Христова, она есть само это Боговоплощение, как усвоение Богом человеческого естества и усвоение божественной жизни этим естеством, его обожение (), как следствие соединения обоих естеств во Христе»18. В этом смысле евхаристический момент пронизывает всю жизнь церкви во всех ее проявлениях, как это великолепно показано прот. Александром Шмеманом в книге «Евхаристия. Таинство Царства».
Таким образом, епископ Буго в своей книге утверждает фактически, что в фигуре папы римского концентрируется вся жизнь католической (т.е. всемирной, в его понимании) Церкви. Католическая церковь очень велика, католики составляют самую многочисленную группу не только среди всех христианских конфессий, но и вообще среди всех религиозных групп мира, по приблизительным оценкам католиков в мире насчитывается более миллиарда (1 млрд. 50 млн. чел., по данным http://www.adherents.com/, последнее обновление 26 мая 2003 г.), но, подобно Людовику, римский папа мог бы сказать: «Церковь это я». Как и в случае Людовика, фраза не совсем буквально точная, но верная по существу. Ибо, хотя Церковь и для католиков есть, безусловно, собрание верующих и мистическое Тело Христово, хотя в материально-физическом плане Церковь явно превышает собою папу, как живую личность, но именно эта живая личность, находясь на римском престоле и выступая как пастырь и учитель всех христиан, определяет, что называется Церковью, кто входит в нее, а кто стоит вне. И самое главное – именно папский престол, – а значит и сидящий на нем папа, – как центральный организующий топос римской Церкви является исключительным проводником Духа Святого, которым живет Церковь, «он принадлежит к невидимой Церкви и соединяет ее с видимой»19.
В глазах католиков церковная иерархия и, в конечном счете, персонально папа римский выступает гарантом того, что Церковь, действительно, существует не только как случайное сочетание людей, но и как нечто, имеющее вечный смысл, и гарантом того, что мы к этому высшему смыслу причастны. При этом «христианскость» отождествляется с «католичностью», а последняя находит свое адекватное выражение и подтверждение во власти римского первосвященника, а потому «всякий, получивший крещение, все равно – в католичестве или вне его, приемлется в лоно католической церкви и, благодаря самому акту крещения становится подвластным главе этой церкви – папе»20.
Весь западный мир является наследником римской культуры, которая сильна была своим государственно-правовым духом, воинскими и гражданскими добродетелями. Римская империя реально была тем «правовым государством», которое многие современные общества никак построить не могут. Западное христианство, так же, как и вся европейская культура переняло этот правовой рационализм, юридический подход к человеку и миру, к вопросам веры и спасения души, в котором, по словам архиепископа Сергия (Страгородского), «личность и ее нравственное достоинство пропадают, и остаются только отдельные правовые единицы и отношения между ними. Бог понимается главным образом первопричиной и Владыкой мира, замкнутым в своей абсолютности, – отношения Его к человеку подобны отношениям царя к подчиненному и совсем не похожи на нравственный союз»21.
Этот юридизм накладывается на жизнь Церкви как формы организации религиозной жизни. И.А. Ильин констатирует: «У католика «вера» пробуждается от волевого решения :довериться такому-то (католически-церковному) авторитету, подчиниться ему и заставить себя принять все, что этот авторитет решит и предпишет, включая и вопрос добра и зла, греха и его допустимости»22. Власть и подчинение, предписание и исполнение – вот принципы устройства церковного общества на Западе, который, по общепринятому мнению, развивает как раз начало самодеятельной личности, начало свободного индивидуализма.
Юридический дух питает и католическое понятие о «соборности», которое, кстати, было выше продемонстрировано В.С. Соловьевым. Под соборностью, собственно говоря, католики разумеют лишь коллективный принцип управления церковью в противоположность единоличному. Идея коллективности управления породила в средние века так называемое «Соборное движение» (период «Великого раскола» 1378-1417 гг.), а в XIX веке – идеологию «старокатоликов», не принявших непогрешимость папы в качестве догмата.
Именно в этом смысле интерпретируя соборность, пытался примирить Западную и Восточную церкви В.С. Соловьев: «Нет никакого принципиального и справедливого основания для антагонизма между папским единовластием и соборным началом восточной церкви. Для христианства существенна идея первосвященника, необходимо присутствие в церкви архиерея, непрерывным преемством связанного с апостолами и Христом, единым вечным Первосвященником. Эта идея первосвященника на Западе представлялась преимущественно единолично, сосредотачиваясь в лице верховного первосвященника, папы. На Востоке та же самая идея являлась преимущественно собирательно – в соборе епископов»23.
Соловьева дополняет и уточняет Л.П. Карсавин, питавший одно время симпатии к католичеству, однако, по его словам, не стремящийся «доказывать истинность католичества» и ставящий задачу «гораздо скромнее – посильное изображение духа католицизма»24. Он пишет: «Можно с уверенностью сказать, что и на пути попыток обосновать видимую церковь на принципах соборно-епископальной теории неизбежно придется придти к подобному же догмату, то есть к подобной же формуле погрешимой непогрешимости. Только епископализм не дает видимого единства церкви на земле, а соборное начало не в силах обосновать постоянства этого видимого единства. Лишь монархическое строение видимой церкви преодолевает пространство и время в земном ее существовании»25.
И он прав, конечно. Если соборность понимать как главенство и условно непогрешимый авторитет соборов епископов, то она, в сравнении с единоличной властью папы выглядит нисколько не лучше и проигрывает даже по многим пунктам. Вот что пишет, например, Соловьев (а мы позволим себе прокомментировать некоторые моменты его речи): «В этом смысле соборность всегда признавалась и представителями церковного единовластия – римскими папами. Все те Вселенские Соборы, которые почитаются на Востоке, были признаны и папами (если, конечно, забыть, что в 1460 году папа Пий II буллой запретил всякую апелляцию к Вселенским Соборам, как унижающую достоинство римских пап – А.А.), не исключая и того из этих соборов (второго), на котором вовсе не было представителей западной церкви. Да и после злополучного разделения церквей соборное начало (в западном понимании – А.А.) проявлялось на Западе даже гораздо сильнее, чем на Востоке. Не говоря о великом множестве частных соборов во всех странах Европы, после разделения церквей было до двенадцати общих соборов всей западной церкви (которые именовались-таки Вселенскими, несмотря на разделение – А.А.), из коих на двух (Лионском и Флорентийском) были представители Православного Востока (речь идет об агрессивных попытках католицизма навязать унию – А.А.). Папское единовластие не утверждается в исключительном смысле и постановлениями последнего Ватиканского Собора. Слова non autem ex consensu ecclesiae, взятые в связи со своим контекстом, означают только, что решения, объявленные папой ex cathedra, т.е. в качестве учителя всей церкви, могут иметь законную силу и без формального согласия епископского собора и прочих верующих. Этим ограничивается, но не исключается значение соборного начала в церкви (то есть объявить, что решения папы не нуждаются в одобрении соборов, это, по мнению Соловьева, не означает отменить значение соборов… Что же это означает, хотелось бы знать… – А.А.)»26. Интересно, кстати, заметить, что тут у Соловьева впервые за все время нашего цитирования помимо папы и соборов мелькнули еще и «прочие верующие», правда, как совсем уж безгласая масса, причем этот факт не случаен, и он не на совести цитирующего.
Вопрос, однако же, не в том, кто должен главенствовать в церковной организации – один человек или коллегия, по крайней мере, вопрос так не стоял для ранних христиан. Употребляя в качестве эпитетов к слову «Церковь» достаточно много слов и терминологического характера, и поэтического, они усвоили, тем не менее, как одну из самых существенных характеристик Церкви слово katholikos, редкое в дохристианской литературе. Для выражения имеющегося у них бытийного опыта церковности не подошли настолько хорошо ни «универсальная», ни «вселенская» (oikoumenike) в смысле охвата всего мира и всех людей, населяющих землю, ни «совместная» (synodike) в смысле коллегиального ее управления синодом (сходкой – буквально), собором. Все эти слова не позволяли вместить выражаемый смысл надлежащим образом. Слово позволило это сделать и было закреплено догматически в Символе веры Второго Вселенского Собора. Попытаться реконструировать тот первый смысл необходимо для уразумения того, что следует понимать под соборной природой Церкви.
В анализе раннехристианских принципов церковного устройства полезно опереться на исследования протопресвитера Николая Афанасьева, в особенности на итоговую его книгу «Церковь Духа Святого». Во-первых, следует отметить, что все христиане без исключения составляют «род избранный, царственное священство» (1 Пет. 2, 9), каждый из них является, в принципе, священнослужителем, каждый обязан, а потому имеет право служить Богу. Этот момент в понимании христианами своей духовной жизни следует, видимо, признать определяющим в раскрытии основ соборного единства.
Храмы, святилища всегда у всех народов воспринимались как жилище Бога (или богов), поэтому и входить туда люди не могли за исключением особо посвященных жрецов. Жертвенники располагались перед храмом, и именно перед храмом производились почти все церемонии, молитвы, жертвоприношения. Подобное устройство имел и Иерусалимский Храм (только существовал он, в отличие от языческих капищ, в единственном числе), являющийся прообразом христианских церквей: у него был внутренний двор, непосредственно примыкавший к Храму и называемый Двором священников, где совершались жертвоприношения и прочие священнодействия. Низкой оградой, чтобы эти священнодействия можно было видеть, от него был отделен Двор народа, все это окаймлялось еще Двором язычников, где, помимо инородцев, должны были стоять и евреи, не прошедшие ритуального очищения и женщины. А в Святое Святых Храма мог входить только один человек – первосвященник, один раз в год, чтобы принести жертву сначала за свои грехи, а затем за грехи всего народа. Аналогичное устройство храмов усвоило себе и христианство (и не только архитектуру, которая как раз имеет главным образом другие истоки, но и внешнюю форму многих совершаемых там действий и имеющихся там предметов).
Тем поразительнее тот обыденный для современного человека факт, что в храм заходят все христиане (и даже нехристиане) – в то помещение, которое соответствует Святилищу Иерусалимского Храма, доступному лишь для священников. А факт этот имеет истоком то, что все христиане, уже в силу совершенного над ними крещения, облечены священническим достоинством и призваны к богослужению.27
Для понимания сути кафоличности Церкви следует остановиться на содержательной стороне того действия, к которому каждый ее член призван и через которое обеспечивается ее своеобразное существование. Как уже отмечалось выше по другому поводу, основное содержание христианского богослужения заключается в совершении литургии, имеющей свою кульминацию в таинстве Евхаристии, в котором «Твоя от Твоих Тебе приносяще о всех и за вся». Бескровная жертва Евхаристии является повторением и воспроизведением Тайной вечери Христа с учениками, когда «Иисус взял хлеб и благословив преломил и, раздавая ученикам, сказал: приимите, ядите: сие есть Тело Мое. И взяв чашу и благодарив, подал им и сказал: пейте из нее все; Ибо сие есть Кровь Моя нового завета, за многих изливаемая во оставление грехов» (Мф. 26, 26-28).
Следствием того, что прообразом центрального таинства христианской Церкви является Тайная вечеря, является необходимость для одного человека из общины выполнять при ее воспроизведении роль Христа, быть центральной фигурой, предстоятелем при совершении таинства, возносящим при сослужении всей общины благодарение (буквальный смысл слова «Евхаристия») и совершающим бескровную жертву. При этом, как уточняет современный богослов, «священники Православной Церкви не действуют «за» Христа или «вместо» Христа, как будто Он Сам отсутствует, но, напротив, их задача – проявлять и свидетельствовать о действенном присутствии Христовом в мире»28.
Выше уже было упомянуто о церквеобразующем характере таинства Евхаристии, повторим кратко, как достигается церковная «кафоличность». Поскольку после освящения на литургии хлеба и вина, они делаются еще и Телом и Кровью Христа, постольку на «индивидуальном уровне» («индивидуальном» взято в кавычки, так как и все таинства, а это в особенности является действием церковным в глубочайшей своей основе) причастие является принятием внутрь себя Бога, ибо тело Христово неотделимо от Его души, а Его человеческое существо – от Его Божественной сущности. А на уровне церковной общины совместное причащение Святых Христовых Таин делает эту общность людей органическим единством буквально, то есть, проникая каждого причастника, Божественность Христа делает совокупность человеческих существ единым организмом – единым и нераздельным Телом Христовым, то есть – Церковью. «Один хлеб и мы многие одно тело; ибо все причащаются от одного хлеба» (1 Кор. 10, 17). «Таинство Евхаристии (…) является мистическим при-общением, при-частием людей Богу, друг другу, всему человечеству и всему, что только существует через Христа в Святом Духе», – пишет вслед за апостолом и упомянутый богослов29.
Об этом и слова Игнатия Антиохийского: «Старайтесь же иметь одну Евхаристию. Ибо одна плоть Господа нашего Иисуса Христа и одна чаша в единении крови Его, один жертвенник, как и один епископ с пресвитерами и диаконами, сослужителями моими» (Послание к филадельфийцам IV)30. Это единство жертвенника и единство епископа, отстаиваемые Игнатием, означают для него единство и кафолическую полноту церковной жизни, достигаемые через единство Евхаристического собрания. Кафоличность эта заключается по прямой этимологии слова (’ ‘ – вообще, в целом; ’ ‘ – «по всему», «по целому») в адекватном отношении к целостности. Она есть такая полнота, которая не нуждается уже ни в каких дополнениях, это не количественная, а, скорее, качественная характеристика. Всякая община, где хранятся истины веры и совершается Евхаристия, обладает такой полнотой церковной жизни, ибо в ней пребывает, ее возглавляет – Христос.
При этом, отмечает прот. Николай Афанасьев, из совершенной тождественности присутствия Христа в каждой Евхаристической чаше, в каждой местной церкви вытекает тот факт, что «если кафоличность не связана с множественностью местных церквей, то по своей природе она стремиться к множественному распространению церквей (…) Задача (…) есть вселенская множественность местных церквей, из которых каждая является кафолической церковью. Кафолическая идея не исключает идею вселенской или универсальной церкви, но ее содержит, как вселенское растущее множество местных церквей, объединенных в любовное согласие»31.
Этот первохристианский опыт был, в качестве основы, в равной степени унаследован и Западной, и Восточной церквями, однако при этом существенно различный вид приобрело в этих церквях учение о первосвященстве епископа и его власти по отношению к церковному народу. Неискоренимый юридизм латинства облек и церковную жизнь в строгие правовые рамки. Восток же, усвоив первосвященническую роль епископа в местной церкви и власть одних епископов над другими, сохраняет, тем не менее, свободу церковной жизни. Как пишет современный автор, «митрополиты и патриархи руководят и председательствуют над территориями большими, чем их собственные епархии, – только в чисто человеческих и практических делах, а в своем епископском служении они не важнее и не главнее других. По данной им благодати они совершенно равны друг другу»32.
Если говорить о православии, то, в принципе, ничто внешнее не мешает любой епархии быть автокефальной церковью, ибо она вмещает в себя все, что ей необходимо вмещать. Связанность епархий в единство поместной церкви, как и связанность поместных церквей в единство так называемой Восточно-православной церкви, обуславливается причинами внутреннего плана, которые, может быть, менее надежны по причине невозможности зафиксировать их извне, но зато опорой на эти именно внутренние факторы достигается свобода церковной жизни, вовсе не отрицающая единства, а как раз обеспечивающая его.
Кратко и в принципе эта внутренняя связующая сила называется любовью. Бесконечно повторяемая ап. Иоанном Богословом своим ученикам заповедь «любите друг друга» является наибольшей заповедью, содержащей все остальные, именно потому, что любовь – это единственно возможное основание личностного единства, в котором обретается положительная «свобода-для» по терминологии Н.А. Бердяева. Апелляция к любви, как внутрицерковной связующей силе, выглядит малоубедительно для «внешних» ей, но, как свидетельствует прот. Николай Афанасьев, «признание в церкви иной власти, чем власть любви, означало бы или умаление, или отрицание благодати, т.к. оно означало бы умаление или отрицание общей для всех в Церкви харизмы Любви, без которой не может быть никакого служения»33. Такое умаление или отрицание благодати в Церкви можно поставить в вину и католичеству с его приписываемой папе юрисдикцией как в Церкви, так и за ее пределами, и протестантизму с его сведением «объективной реальности» любви и единства, даваемого ею, к субъективному переживанию теплых чувств по отношению к «братьям по вере», с его отрицанием всякой власти вообще.
Подводя некоторый итог анализу понятия кафоличности, следует отметить, что исторический процесс организационного становления христианской Церкви, является процессом постепенного оформления идеи кафоличности, постепенного выкристализовывания определенного способа реализации понятия о «кафолической Церкви», понятия, которое присутствует уже в самом начале этого процесса и определяет собою его. Раннее христианство дает очень непосредственный, «наивный» образ соборности, который, в силу этих своих качеств и более чист, и более бесплотен, духовен, его реализация носит больше характер экзистенциальный, – действие соборного начала здесь ярче и мощнее, чем в последующие века, но оно имеет минимальное внешнее оформление.
В том историческом развитии христанства, которое происходило на Западе и на Востоке, очень существенным моментом является следующий, – усваивается ли понятие о личном обладании благодатью священства, или же этому обладанию указывается основание и цель в общественном служении, в церковной жизни всего народа. Различное понимание апостольского преемства в Западной и Восточной церквях является одним из определяющих условий, формирующих ту или иную интерпретацию «кафоличности». На Западе под ним «подразумевалось личное преемство власти, восходящее к апостолам и получаемое епископами при рукоположении через возложение рук (…) В православном понимании это преемство всегда обусловлено единством церковной веры (…) Вне Церкви нет и преемства, а само преемство есть знак единства веры, а не магическое свойство некоторых личностей-епископов (…) Преемство, таким образом, существует в рамках всей Церкви, как целого, а не на уровне отдельных личностей (…) только в контексте евхаристического собрания верных обнаруживается «дар Истины», которым наделены епископы»34, – пишет современный исследователь.
Таким образом, выводы относительно экклесиологического принципа соборного единства, раскрывающего кафолическую природу Церкви, можно свести в следующие пункты: 1) Соборность есть неотъемлемая черта Церкви, как богочеловеческого организма; теряя соборную природу, сообщество верующих перестает быть Церковью. 2) Соборность предполагает триединство свободы, целостности и любви, и любовь имеет основополагающий смысл. 3) Онтологическим основанием соборного единства является действие Св. Духа, открывающееся во взаимной любви христиан, дарующей как свободу, так и целостность, и овеществляющееся – в таинстве Евхаристии, соединяющем собрание верных в единое Тело Христово. 4) Внутренняя структура церковной общности, как выражение церковной природы Церкви, вырастает из потребностей литургического действия. Различие прав, обязанностей и функций внутри Церкви, различие благодатных даров в ней определяется различием мест в общем служении и своеобразным характером тех или иных частных служений в рамках общего. 5) Те или иные благодатные дары, принимаемые и передаваемые отдельными личностями, не имеют смысла на уровне этих личностей, как обособленных индивидов, они реальны лишь в контексте целостного единства церковной общности. 6) Как следствие из предыдущего пункта, – действия, совершаемые «отдельными» людьми по особо сообщенной им благодати, есть, в сущности, действия церковные, ибо благодать, действующая в них, есть достояние всей Церкви, как целого. 7) Все «частные» дела веры, вплоть до личного «обожения», носят не единоличный, а церковно-личный характер соборного действия.



