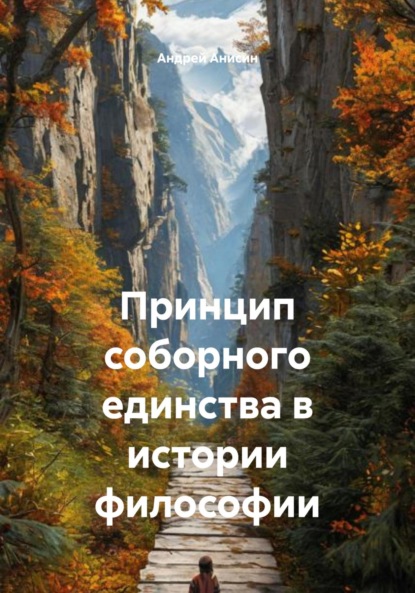
Полная версия:
Принцип соборного единства в истории философии
Все это, действительно, есть некоторое выражение принципов соборного единства, однако слабость и ограниченность этого проявления видна вполне ясно. Прежде всего, рационалистическая установка принуждает видеть в духовных субстанциях именно монады, то есть единицы, обособленные друг от друга. Каждая такая монада чувствует в бесконечно малых восприятиях весь мир73, но внутренняя ее жизнь закрыта для других монад наглухо74, взаимодействовать друг с другом они не способны никак, это принципиальная установка Лейбница. Даже то «идеальное влияние одной монады на другую, которое может происходить лишь при посредстве Бога», о котором он говорит, не является, по существу, действительным их взаимодействием. Речь идет только о предзаданной Богом «предустановленной гармонии» творения. Лейбниц в этом смысле нисколько не выходит за рамки привычного новоевропейского механицизма, просто он рассматривает монады как «бестелесные автоматы»75.
И даже величественная картина «Града Божьего», венчающая «монадологию», вряд ли может быть признана адекватным выражением принципов соборного единства. Здесь, безусловно, Лейбниц ближе всего подходит к теме соборности именно как онтологического принципа, ближе, может быть, чем кто бы то ни было в новоевропейской философии, но и в этом случае рационализм первичных установок препятствует мысли раскрыться в полную меру.
Все-таки, даже допуская для каждого «духа» (человеческого, надо полагать) «некоторого рода общение с Богом», Лейбниц не может говорить о единстве с Ним, об идеале обожения. Бог стоит к духам «в отношении правителя к подданным и даже отца к детям», но о Богочеловечестве как об онтологической предпосылке и ориентире существования «Града Божьего» речи здесь не идет. Все-таки, даже сказав о возможности отношения Бога к людям как «отца к детям», Лейбниц мыслит Град Божий именно как «самое совершенное, какое только возможно, государство под властью самого совершенного Монарха». И все-таки даже «духи» не могут иметь личных отношений между собой, то есть действительного личностного общения. Даже «высшие монады, духи» остаются у Лейбница, по существу, такими же «бестелесными автоматами», как и их «менее продвинутые» аналоги.
Таким образом, монадология Лейбница представляет собой интересный пример выражения некоторых существенных черт соборной логики бытия средствами и в рамках той философии, которая о соборности мыслить по-настоящему оказалась неспособна. Еще ярче проявляется это обстоятельство на вершине развития европейской философской традиции, – в немецкой классической философии.
Весьма характерно то, что ни у Канта, ни у Фихте не удастся найти идей, сколько-нибудь значимо связанных с темой соборного единства. Кантианство и фихтеанство оставляют сложное и сильное впечатление недюжинной интеллектуальной мощи пробивающей путь в тупиковом направлении, это взыскание цельности, всецелостности, единения и всеединства, которое однако с самого начала (точнее еще до начала собственно мысли) имеет в себе корень розни и разобщения. Разум, воля и чувство разобщены в человеке, люди разобщены между собой, человек и мир, человек и Бог разобщены на уровне исходных мировоззренческих установок. «Знать все как одно» возможно в этом случае только одним способом: свести «Всё» к человеку, а человека – к разуму, и, таким образом, cogito делается теперь уже не просто исходным пунктом познания, той первой очевидностью, с которой Декарт предполагает начать возведение здания истинного знания, это cogito теперь – единственная реальность и последний пункт философской мысли.
У Декарта, кстати будет заметить, в качестве основания постулируется еще одна очевидность, не менее очевидная, чем бытие мысли мыслящего субъекта: бытие Бога. Невозможность усомниться в том, что Бог есть, логическую абсурдность сомнения в этом Декарт показывает достаточно ясно. Однако, видимо, даже для того, чтобы чувствовать эту вполне разумную логику, необходимо сердце. И уж тем более, необходимо оно для признания очевидной правдивости Бога, утверждение которой только и может быть путем выхода из-под угрозы скептического солипсизма, благодаря которой мыслящий субъект может быть уверен в адекватности своих восприятий, в реальном существовании предмета этих восприятий.
«Чистый разум» Канта «чист» не только от опытных данных, он должен быть очищен и от примесей «сердечных движений», именно такая «очистка» лежит в основе кантовской «критической философии». Несмотря на огромную разницу во внешнем изложении идей у Канта и у Гегеля, у истоков и в конце немецкой классики, логика развития мысли Кант‑Фихте‑Шеллинг‑Гегель пряма и однозначна: разум (совершенно чистый от чего бы то ни было привходящего) все яснее и все глубже осмысляется как субъект‑субстанция всякого бытия. У Канта эта мысль еще в зародыше, а Гегель высказывает ее в абсолютной форме.
Попытки Шеллинга и Гегеля подойти к раскрытию некоего высшего «тождества», абсолютного единства как раз и составляют возможную почву для развития темы соборного единства. Очень продуктивным вариантом культурного развития являются случаи встречи и взаимодействия «зеркальных культур», представляющих взаимно «свое‑иное» друг друга. Обоснованным представляется нам утверждение о то, что «для немецкой культуры рассматриваемого времени (речь идет о XIX веке – А.А.) таким зеркальным «своим – другим» выступала литературная Россия. При этом в сферу такого «своего – другого», по всей видимости входила и философская мысль»76. Общеизвестно, что старшие славянофилы, Алексей Степанович Хомяков и Иван Васильевич Киреевский, в своей философии вообще и в разработке концепции «цельного знания» в частности, часто апеллировали к имени Шеллинга77, удостаивая его таких наименований как «славный Шеллинг, один из гениальнейших умов не только нашего времени, но и всех времен»78. Нередко можно встретить и утверждения, что вся философская концепция славянофилов вместе с идеей «соборности» есть лишь пересказ достижений немецкой классики и Шеллинга в особенности.
Такие утверждения, мягко говоря, преувеличивают как степень действительной значимости Шеллинга для разработки философии соборности, так и зависимость русских мыслителей от этого немецкого мыслителя (без сомнения, великого и, по видимому, недостаточно, как и Фихте, оцененного на фоне Канта с Гегелем). Позволим себе привести достаточно обширную цитату из работы Киреевского «О необходимости и возможности новых начал для философии».
«Последняя система Шеллинга не могла еще иметь настоящего действия на умы, потому что соединяет в себе две противуположные стороны, из которых одна несомненно истинная, а другая почти столько же несомненно ложная (курсив наш – А.А.): первая – отрицательная, показывающая несостоятельность рационального мышления; вторая– положительная, излагающая построение новой системы (и вот она-то ложная – А.А.)… Убедившись в ограниченности самомышления и в необходимости божественного откровения, хранящегося в предании, и вместе с тем в необходимости живой веры как высшей разумности и существенной стихии познавания, Шеллинг не обратился к христианству, но перешел к нему естественно, вследствие глубокого и правильного развития своего разумного самосознания, ибо в основной глубине человеческого разума, в самой природе его заложена возможность сознания его коренных отношений к Богу… Но неопределенность предварительного убеждения и вместе неопределенность внутреннего значения мифологии, подлежащих более или менее произвольному толкованию изыскателя, были причиною, что Шеллингова христианская философия явилась и не христианскою и не философией (курсив наш – А.А.): от христианства отличалась она самыми главными догматами, от философии – самым способом познавания»79.
Для славянофилов в философии Шеллинга, действительно, была значима, прежде всего, отрицательная, как выражается Киреевский, сторона, которая говорила об «ограниченности самомышления и необходимости божественного откровения, хранящегося в предании, и вместе с тем необходимости живой веры как высшей разумности и существенной стихии познавания». Именно эта сторона философской деятельности Шеллинга снискала высокие похвалы русских мыслителей, положительная же часть учения Шеллинга, его проект «новой системы» оценивались славянофилами куда как скромнее.
Главным образом, Шеллинг имел для Хомякова и Киреевского значение свидетеля, который изнутри западной философии, с самого «переднего ее края» критикует ограниченность западной мыслительной традиции, дает основания для вынесения некоторого «диагноза» новоевропейскому рационализму и ставит задачу перехода от чисто логической и потому отрицательной философии к положительному, цельному знанию. Как пишет Киреевский, «все системы новейшего любомудрия, под какими бы формами они ни обнаруживались, под какими бы ни скрывались именами, преследовали единственно развитие законов умственной необходимости, и даже новейший материализм основывался на убеждении чисто логическом, выведенном из отвлеченного понятия законов нашего разума, но не из живого познания сущности вещей и бытия»80. Философия Шеллинга должна была, по мысли славянофилов стать «самою удобною ступенью мышления от заимствованных систем к любомудрию самостоятельному, соответствующему основным началам древнерусской образованности и могущему подчинить раздвоенную образованность Запада цельному сознанию верующего разума»81.
Говоря о западно-европейском варианте развития идеи соборного единства бытия необходимо подробнее остановиться на философии Георга Вильгельма Фридриха Гегеля, как на том высшем пункте, к которому традиция европейского «платонизма» приводит мысль и выше которого, видимо, уже подняться не может. Вся без исключения послегегелевская философия с большим или меньшим успехом отталкивается от этого мыслителя: и в смысле опоры, и в смысле ухода.
Единство мира, по Гегелю, – это диалектический разум, Абсолютная Идея в качестве субъект‑субстанции мира. Только ценою полной «дематериализации» первоначала Гегелю удается мыслить порожденный им мир в реальном многообразии и движении, мыслить мир живым единством. Ибо если первоначальное и сущностное единство мира мыслится хоть сколько-нибудь вещественным образом (в виде, например, спинозовской Субстанции), то неотвратимой перспективой делается Бытие Парменида, обреченное «быть целокупным и неподвижным», которое «закончено со всех сторон, похожее на глыбу совершенно-круглого Шара, везде [= «в каждой точке»] равносильное от центра, ибо нет нужды, чтобы вот тут его было больше или меньше, чем вот там»82. Первоначало вещественным «немножко» быть не может, сочетанием формы и материи оно быть не может, – будучи причастным к материальности, оно совершенно уничтожает в себе всякую возможность формы. А потому только чистой формой должно оно быть, «формой всех форм», по выражению схоластики.
«Форма всех форм» – это и есть логика. Единству мира в системе Гегеля нисколько не мешает актуальная множественность вещей, напротив, именно эта множественность обеспечивает логическое единство мира. Множественность здесь становится не только преходящим моментом движения Единого первоначала, как мы видим это, например, в неоплатонизме, она способна выступать и как адекватное выражение Единого.
В традиционной логике всеединства у неоплатоников и гностиков всякое различие и множественность рассматривались как результат деградации Всеединого Первоначала, как его ниспадение (или по крайней мере, нисхождение), огрубление и даже некая «утрата Первоединством Самого Себя». Восхождение же обратно к Единому мыслилось как стирание различий, упразднение всякой отдельности, как растворение всего в Едином, так, чтобы «Бог во всем и все в Боге», так что ничего уже нет кроме Одного Единого.
В системе Гегеля многообразие всего возникает как самораскрытие и самопознание Абсолютной Идеи, началом как логически, так и исторически является Единственное Единое. Но при этом возникновение материального мира – в отличие от неоплатонизма – не есть «падение» Идеи в омертвелую разрозненность, оно является началом становления в ином, которое учиняет над собою Идея. И это становление заключается не в слиянии всего в одно, а в прогрессе внутренней связанности мира, в прогрессе его разумности. Окончательное обретение Идеей себя самой в высших формах человеческого духа не есть «воссоединение Атмана с Брахманом», возвращение некогда оторвавшейся капельки в океан, ее породивший. В этом своем высшем самораскрытии Абсолютная Идея не поглощает множественности и не стирает различий, но эта множественность во всех наличных различиях делается выражением диалектической логики Абсолютной Идеи (вернее, может быть, той диалектической логики, которая и есть сама Абсолютная Идея).
Гегелевская «идеальность для‑себя‑бытия как тотальность» предполагает реальную множественность проявлений бытия, с одной стороны, и реальное единство этого бытия, с другой. Эта философия дает возможность понять мир как бесконечно развивающийся процесс, с одной стороны, и как всеобъемлющий неизменный принцип. Многое эта философия позволяет, но только так и не может выйти за рамки общей ограниченности западноевропейской философии. Эта ограниченность касается не просто некоторых тем, она относится к наиболее важным и глубоким для философской мысли темам. Дилемму единства и множественности Гегеля удается преодолеть весьма успешно, но есть и другая, более значимая дилемма, переводящая дискурс на более глубокий уровень. Западный рационализм, даже на высшем своем уровне, в форме диалектического разума, оказывается неспособен постичь глубину темы личности, а также неразрывно связанную с нею тему свободы.
Вот как очень характерно пишет Гегель о логической экспликации (в отличие от историко-философского анализа становления) истинной философии: «Свободная и истинная мысль конкретна в себе, и, таким образом, она есть некая идея, а в своей завершенной всеобщности она есть идея как таковая, или абсолютное. Наука о ней есть существенно система, потому что истинное как конкретное есть развертывающееся в самом себе и сохраняющее себя единство, т.е. тотальность, и лишь посредством различия и определения различий может существовать их необходимость и свобода целого»83.
Только одну свободу знает Гегель: свободу целого; только одно остается на долю различающихся моментов этого целого: необходимость; только одна существует на их уровне свобода: осознанная необходимость. Гегель, конечно, уходит от того прямого и жесткого холистического детерминизма, который демонстрирует, например, Спиноза, он весьма глубоко понимает реальность свободы, раскрывая смысл ее – на феноменологическом, сказали бы мы уровне – в своей «философии духа». Однако это раскрытие, проводимое на тяжелом, онтологически основательном, по-гегелевски весомом языке, усматривает единственное онтологическое основание действительной свободы индивида во всеобщем диалектическом разуме. Более того, вообще никакой собственной действительной свободы у индивида и быть не может: та действительная свобода, которой я обладаю, есть на самом деле свобода целого. Иллюзия же моей независимости от целого, моей самобытности остается всего лишь иллюзией, – абстрактной и глупой.
Действительная свобода, которая есть в мире, принадлежит диалектическому Мировому Разуму, Абсолютной Идее, она и только она есть действительный субъект всякого процесса, утверждающий себя во множестве вещей и процессов, но представляющий собой их существенное единство, «душу» всякой вещи и действительность всякого процесса. Когда, например, Гегель, описывая предпоследнюю ступень восхождения Абсолютного Духа к своей полноте, «религию откровения», высказывает следующие мысли: «Бог есть Бог лишь постольку, поскольку Он знает Самого Себя; Его знание Самого Себя есть, далее, Его самосознание в человеке, а знание человека о Боге развивается, далее, до знания себя человеком в Боге»84, – в этом можно видеть не только сведение Бога к понятийному самосознанию человека, но и сведение человеческого самосознания и самоопределения к самоопределению Бога.
Иллюзия господственного положения человека в мире, обретаемого вследствие «божественности» человеческого разума (то есть окончательного адекватного самораскрытия Абсолютной Идеи в человеческой духовной деятельности), оборачивается полным упразднением свободной субъектности человека, реальной его самобытности, которая сводится к диалектике (внутреннему диалогу) Мирового Духа. Иногда Гегель говорит о человеке так, как если бы тот имел свои собственные интересы, свою собственную жизнь, как если бы он находился в свободных отношениях с мировым целым. Однако нельзя не видеть, что такая форма речи не отражает действительного положения вещей.
Если, например, Гегель говорит о «хитрости исторического разума», который добивается своих предзаданных диалектической логикой целей, создавая у исторических деятелей (народных масс в том числе), эти цели реализующих, иллюзию, что они действуют в соответствии со своими интересами, то слово «хитрость» – не более, чем поэтическая фигура речи. Мировой Разум ничего не скрывает, никого не обманывает, он производит логически необходимые предпосылки логически необходимых следствий, если же предпосылки оказываются непохожи на следствия, то тут нет «хитрости», тут только «логика самодвижения понятия».
И все-таки именно философия Гегеля является в рамках западноевропейской философской традиции одной из важнейших опор для разработки идей соборного единства в качестве философского принципа. Прежде всего, – и это очевидно, – большое значение имеет в этом смысле гегелевская диалектика. Говоря о диалектике, необходимо, прежде всего, обратиться к тому его первоначальному смыслу, который обеспечил этому понятию долгую жизнь и богатый философский потенциал. Подробная и глубокая разработка принципов диалектики в различных направлениях современной философии может быть критически осмыслена и развита только при условии опоры на этот коренной смысл.
В собственном смысле слова «диалектика» (dialektike) есть «искусство вести беседу», умение разговаривать (dialegomai) так, чтобы получался диалог, чтобы мысль каждого из собеседников находила бы опору и оппозицию в мысли другого. Диалектика есть умение двигаться мыслью в беседе, – умение слышать, спрашивать и отвечать таким образом, чтобы открывались новые горизонты интеллектуального видения. Говорят, что «в споре рождается истина». Это не совсем верно: во-первых, не в споре, а во-вторых, не рождается. Диалектика в своем исходном смысле имела в виду такой способ взаимодействия мыслящих людей, который по-русски вернее обозначается словом беседа, а не спор. Беря сократический диалог, как классический образец античной диалектики, мы ясно видим, что Сократ не спорит, он беседует. В русском слове спор силен смысл противостояния, этимологически «спор» происходит от корня «переть, упираться», как один из древнерусских вариантов словарь М.Р. Фасмера приводит «соупор»85. Диалектическая беседа – это не противостояние, а, скорее, совместное предстояние предмету. Но и в такой беседе истина не рождается, – она открывается нам в диалектическом движении мысли, беседа есть способ приблизиться к ней.
Как известно, Гегель придал слову диалектика более фундаментальный, онтологический смысл, понимая ее уже не как некий человеческий навык, а как принцип существования и движения мира. Диалектика интеллектуального постижения истины является по Гегелю воспроизведением объективной диалектики Абсолютной Идеи как субъект‑субстанции мира. Одним из влиятельных продолжений философской разработки диалектики явилось ее материалистическое переосмысление, совершенное К. Марксом и развитое последующим марксизмом.
Однако именно если иметь в виду исходный и основополагающий смысл диалектики, ее имманентный конституирующий принцип, то не может не возникнуть сомнение в обоснованности произведенного Марксом «переворачивания диалектики с головы на ноги». Под вопрос необходимо поставить возможность материалистической диалектики как таковой. Многие философские идеи и принципы более или менее способны к перенесению с идеалистической почвы на материалистическую, но только не эта. Законы диалектики настолько же способны иметь прямое действие на материю, насколько взаимодействие идей может быть подчинено закону гравитации. «Диалектика природы» возможна только в том случае, если природа подчинена духу и ее процессы являются выражением его движения.
Когда Гегель говорит об объективной диалектике, когда он даже и материальную сферу бытия, природу мыслит как диалектическое противоречие и диалектическое развитие, в этом нет ничего странного или непоследовательного: с точки зрения Гегеля весь мир есть живая разумность, диалектическое собеседование мирового разума. Когда Гегель противоречие считает источником развития, это очень понятно: противоречие внутри разума побуждает разум к движению, к решению противоречия, а это решение, будучи действительным самодвижением разума, не может не вести разум к новому, более высокому уровню проблемности. Всякое внутреннее противоречие является для разума именно проблемой, – в этом источник развития. Греческое означает «предварительное решение», а в практике афинской демократии – «предварительное постановление Ареопага, предложение или законопроект не имеющий еще силы закона, но нуждающийся в обсуждении народным собранием»86. В качестве такого «предварительного проекта» и одновременно «запроса, требующего рассмотрения и разрешения» воспринимается разумом противоречие.
Будучи «перенесена» в материальную сферу, диалектика обращается в абсурд. Мировой разум, который мучается противоречиями и, решая их, движет мир, – такая картина кому-то покажется неверной, неточной или спорной, но она внутренне ясна и последовательна. Материя, которая мучаясь противоречиями, разворачивает внутренний диалог и таким образом, развивает саму себя, – есть нелепость. Прежде всего, сами слова «диалектика», «противоречие» в точном их смысле не могут быть применены к материальному бытию (если не впадать, конечно, в наивный гилозоизм). В материальном бытии не может быть субъекта противо‑речия, и «диалектическую беседу» тут вести некому. То, что «сила действия равна силе противодействия», – это можно, конечно, считать неким «противоречием на материальном уровне», но только в неком метафорическом смысле: никто никому ничего не речёт
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Вы ознакомились с фрагментом книги.
Для бесплатного чтения открыта только часть текста.
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера:
Полная версия книги
Всего 10 форматов



