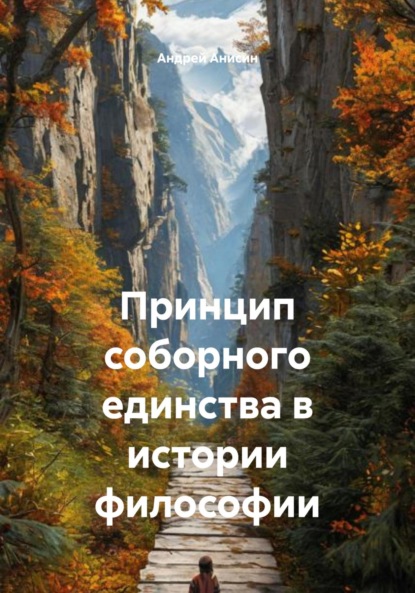
Полная версия:
Принцип соборного единства в истории философии
Если происходит выход за рамки пантеизма и признается некий надмирный Абсолют в качестве производящей причины порядка мироздания, то возможны два видения отношений Абсолюта и мира. Возможно утверждение Абсолюта как именно правящего начала: утверждение теизма, либо – деизм, признающий внемировую причину мирового порядка, но отрицающий вмешательство Божественной воли в порядок мира. При этом теизм, отрицающий Триединство Бога и мыслящий сверхбытие Абсолюта как абсолютную монархию, означает в своем последовательном развитии отрицание свободы, абсолютное предопределение.
То есть, не беря философски несостоятельный вариант радикального релятивизма, Абсолют при отрицании догмата Троицы может мыслиться либо как безличное, либо как единоличное начало (вариант многоначалия, анархии в Абсолютном бытии также можно не рассматривать ввиду его внутренней противоречивости). Признание безличного Абсолюта неизбежно влечет безличность понимания и мира, и человека (ладно бы мира и другого человека, но и меня, мыслящего – тоже). Мировоззрение Упанишад, буддизма и Шопенгауэра (к примеру) именно таково. Признание же единоличного Абсолюта должно сочетаться либо с признанием непосредственного и постоянного действия Божьего в мире, либо отрицать такое действие.
Монотеизм, понимающий Бога как безраздельно правящего миром абсолютного монарха, который не способен иметь никакого другого‑такого‑же, принципиально не может говорить о полноте человеческой свободы. Бог, не знающий свободных отношений любви в Себе, не может быть причиной настоящей свободы и настоящей любви в сотворенном Им мире. В рамках такого монархического монотеизма возможна только иллюзия свободы создаваемая неведением абсолютного предопределения, следовательно и «любовь» оказывается не единством свободных личностей, открывающим бесконечную глубину каждой, а некой безличной силой притяжения, заложенной в природу твари. Богу, понятому как Абсолютный Монарх, и не нужна любовь человека, Ему может быть нужно только повиновение и покорность в качестве применения той эпифеноменальной свободы, которой человек обладает. Только Тот Бог, Который есть Любовь Сам по Себе и в вечности, Который в Себе Самом знает свободное единство Личностей, Который стоит выше различия единичности и множественности, – только Такой Бог может быть Творцом действительной свободы, только Такому Богу может быть желанна любовь человека.
Признание единоличного Абсолюта, Который в мире не действует, означает деизм. Этот вариант дает некоторую возможность говорить о свободе человека, – деизм, собственно говоря, и возник в европейской культуре именно как онтологическое обоснование и выражение высвобождения человека из непосредственной соотнесенности с Творцом, как утверждение возможности человека изучать мир без оглядки на волю Всевышнего. Мир сотворен, законы ему даны, настал «день седьмой», день Божественного покоя, и мир можно изучать как совершенно автономную от воли Творца реальность. И человек в мире как бы «оставлен на собственный произвол», ему дана неотмирная свобода в мире, замкнутом в своих закономерностях. При этом свобода человека, будучи в истоке своем, конечно, не от мира сего, обращена целиком именно на «мир сей», свобода человека замкнута в этом богозданном механизме мира. Деизм, как это уже давно видно, является прелюдией к секуляризму (об‑мирщению, то есть) и атеизму.
Таким образом, отрицание Триединства Абсолюта имеет своими последствиями либо отказ от Бога в пользу человеческой свободы и любви, либо отказ от свободы и любви в пользу Бога.
Монотеизм без веры в Троицу означает тотальное одиночество Бога и, следовательно, невозможность, немыслимость для человека встретиться с Богом, придти к Нему, соединиться с Ним. Ни безличный Абсолют, ни Бог‑Диктатор возможности такой встречи не предполагают. Да и «деистический Бог» оставляет не слишком радостные перспективы человеческой свободе. Последовательный деизм означает утверждение на предельном онтологическом уровне идеи одиночества человека в мире, покинутости его на произвол судьбы или случая.
Выше было уже, видимо, достаточно сказано о том, каким образом догмат Троицы выражает мысль о том, что «Бог есть любовь», но нужно еще несколько слов сказать подробнее и о том, каким образом этот догмат выражает идею свободы. Лиц Троицы именно три, а не два, и не больше трех. «Почему так?» – вопрос звучит, может быть, нелепо для богословия, ибо Троичность не обосновывается умозрительно ничем, она является для христианства фактом религиозного опыта. Однако можно задать вопрос по-другому: «О чем говорит уму этот факт, какие характерные черты могут быть усмотрены в этом опытно данном факте?» Так поставленный вопрос не только имеет право на существование, но, пожалуй, является необходимым вопросом философского разума.
Такой вопрос задается и определенным образом решается также и в рамках святоотеческой богословской мысли. Мы цитировали уже слова Григория Богослова: «Божество выступило из единичности по причине богатства, преступило двойственность, потому что Оно выше материи и формы, из которых состоят тела, и определилось тройственностью (первым, что превышает состав двойственности), по причине совершенства, чтобы и не быть скудным и не разлиться до бесконечности. Первое показывало бы нелюбообщительность, последнее – беспорядок; одно было бы совершенно в духе иудейства, другое – язычества и многобожия»65. Однако если единоличный монархизм Абсолюта ориентирует мировоззрение, действительно, «в духе иудейства» и выражает «нелюбообщительность», а плюрализм (сверх троичности) – в духе «язычества и многобожия», сводя уже на нет единство Бога, допуская анархию внутрибожественного бытия и разливая его в неопределенную, дурную бесконечность, то все-таки, – почему же не может быть принципом Абсолюта двойственность?
Двуединство не содержало бы свободы. Двое были бы обращены друг ко другу поневоле, им просто некуда быть обращенными, если речь идет об Абсолюте. Если Один – это невозможность каких бы то ни было отношений вообще, то Двое – это единственное отношение, оно жестко задано и иных никаких быть не может. Для каждого «Я» существует только одно «Ты», и эти Двое однозначно противопоставлены друг другу и обречены на соотнесенность друг со другом.
Двоица в качестве Абсолюта была бы замкнута внутрь. Если предположение единоличного монархического Абсолюта влечет признание безраздельной и неограниченной экспансии Его монархической воли, то Двуединство в качестве Абсолюта есть, видимо, принцип вообще непродуктивный, нетворческий, – нечто вроде короткого замыкания творческой энергии внутрь Себя Самого.
Троица – принцип Любви, но вместе с тем, неотделимо от этого – также и принцип свободы. Когда Личностей Трое, то их отношения обретают возможность движения, возникает «пространство отношений», каждый акт устремленности их друг к другу, соотнесенности друг с другом определен их личностной, свободной любящей волей, а не фатальной обреченностью. Если одинокая личность – вообще не личность, если две личности – это замкнутость отношений друг на друга, то трое – это полнота личностного бытия, трое – это нумерическое выражение соборности. Недаром забытая мудрость говорит: «Один ребенок – не ребенок, два ребенка – полребенка, три ребенка – настоящий ребенок». Одного воспитать крайне сложно, двух – уже на порядок легче и лучше, трое – это здоровая основа воспитания личности, и дальнейшее увеличение количества детей качественно нового ничего не вносит.
Соборность Абсолютного бытия воспринимается и утверждается в христианском вероучении не только через тринитарное богословие. То, каким образом христианство мыслит себе откровение Бога, то есть саму основу религиозной жизни человека, имеет самое непосредственное отношение к принципу соборности. Можно и нужно сказать, что Абсолютное бытие открывается соборным образом, что откровение, как его понимает христианство, соборно в самом существенном смысле этого слова.
Первый продукт этого откровения – христианское Священное Писание, Библия. И здесь, если перейти от абстракции «священный текст» к конкретике – «библейский текст», то уникальность этого текста в сравнении с другими вероучительными и священными текстами, которые имеет человечество, делается очевидной. Во-первых, «Библия», как известно, это не «книга», это книги. Библия писалась на протяжении полутора тысяч лет очень многими людьми. И уже этот первый отмечаемый нами факт, отличает ее от многих других текстов. В этом отношении рядом могла бы встать разве что ведийская традиция, которая несколько даже древнее по своему началу. Однако характер текстов разительно отличается. Основа ведийской традиции – Ригведа, книга гимнов. «Содержание гимнов большею частью религиозное; это – или воззвания к богам, или песнопения, сопровождавшие известные обряды: выжимание сомы (священный напиток, приготовлявшийся из мясистых стеблей растений), погребение, сожжение и т. д. Но встречаются и песни (очень немногочисленные) светского характера». (Здесь и далее ведийские тексты характеризуются нами по Мультимедийной Энциклопедии Брокгауза и Ефрона66).
Вторая Веда создана в тот период, когда у индусов «фантазия принимает характер необузданный и пылкий, граничащий с чудовищностью. Яджурведа… содержит в себе те изречения или стихи, которые должен был произносить жрец, совершавший жертву – Адхварью (Adhvaryu). К ним присоединяются примечания, объясняющие ритуал, подчас весьма сложный, и разные рассуждения о существе и значении отдельных обрядов, символистические толкования, легенды и указания для жрецов».
Третья Веда, Самаведа – «собрание священных песен, певшихся во время жертвоприношения Соме: нечто вроде молитвенника. В этом отношении Самаведа близка к Яджурведе, составленной также для потребностей культа. В смысле содержаниея Самаведа близка к Ригведе и совсем несамостоятельна, так как почти все стихи ее взяты из Ригведы».
И, наконец, последняя Атхарваведа. «Содержание Атхарваведы составляют преимущественно заклинания против вредоносных божеств, болезней, диких зверей, вражеских козней и т. д., а также заговоры целебного свойства. К ритуалу она не имеет отношения. Все это позволяет думать, что Атхарваведа получила свое начало не у жрецов, а в народе».
Говоря иначе и короче, – Веды представляют собой достаточно бесформенное нагромождение текстов, лишенных логической связи и не обнаруживающих признаков связного повествования. Ни связного изложения истории, ни связного изложения основ веры, ни единства смысла не стоит искать в Ведах. Однако все это можно ясно видеть в библейском повествовании.
Библейское откровение дано не одному человеку и не отдельным духоносным людям, оно дано через духоносных людей народу. Здесь, кстати сказать, можно видеть и еще одну весьма характерную черту библейской традиции как формы существования и усвоения откровения: в отличие от многих религиозно-культурных традиций здесь отсутствует различие между жреческой и народной религией. В Индии, например, оно не просто существует, оно ужесточено еще и кастовой системой.
Пророки и народ в библейской традиции являются взаимообусловленными основами духовной жизни. Откровение не единолично и не безлично, оно соборно, оно реализуется как связь народа с Богом. Ветхозаветный Израиль есть прообраз Церкви. Но это и означает, что уже в ветхозаветной истории мы видим не только проявление, но в определенной степени осознание соборности. К верности призван народ, миссия возложена на народ, завет заключается с народом, и именно с народом выстраиваются все дальнейшие отношения, – народ именуется и «сыном Божьим». В рамках других религий и культур мы также можем видеть проявления соборности как принципа существования человека и общества, как принципа взаимоотношений с Богом, но, на наш взгляд, в других культурах и религиозных традициях начало соборности явлено в усеченном и затемненном виде.
Принцип соборности в библейском откровении реализуется не только в том, что явлено оно «собору» (о чем только что говорилось), но и в том, что библейский текст, в качестве формы существования откровения, является плодом сотрудничества, соработничества человека с Богом. Всякий «священный текст», конечно, священен для людей, почитающих его в качестве такового. Но священен он бывает по-разному. Веды, например, рассматриваются индусами как шрути – «услышанное, подслушанное». Их содержание услышано далекими предками от богов, с небес, но, судя по многим признакам, это услышанное вовсе не предназначалось человеку. В этих речениях мало связности, мало логики, и уж адресованности их человеку не видно нигде. А Коран, в качестве другого примера, воспринимается исламом как прямая речь Аллаха, обращенная именно к человеку, но не содержащая в себе ни малейшего человеческого элемента.
В отличие от этих образов откровения, библейские тексты характеризуются как боговдохновенные. То есть, написаны они людьми, на человеческом языке и в человеческих понятиях, отражающих определенные культурно-исторические особенности. Вот как характеризует «боговдохновенность» Православный энциклопедический словарь: «Боговдохновенность или Богодухновенность – особое воздействие Св. Духа на провозвестников Божественного Откровения, руководящее их в понимании и передаче последнего; также свойство писаний, в силу которого они являются как бы словом самого Бога, а не личным созданием их авторов. При этом, однако, дух человеческий, становясь таким образом орудием сообщения Божественного Откровения, сохраняет и деятельно проявляет все свои силы и способности»67. Здесь принципиально важна оговорка: «писания являются как бы словом самого Бога» и уточнение того, что «дух человеческий сохраняет и деятельно проявляет все свои силы и способности». Сам текст христианского Священного Писания являет собой соборность человека и Бога: свободное единство личностных воль в любви и взаимном служении.
Христианское откровение явлено собору, оно есть продукт соборного единства человека с Богом, но оно, кроме того, является неким соборным единством по своей собственной структуре, по тому, как оно выстроено. Оно не есть единство монолитное, оно состоит из «отдельных» книг «отдельных» людей, оно – не монография, а сборник. Однако «отдельными» эти книги являются именно в кавычках, потому что, будучи очень разными, они устремлены все-таки к одному и тому же, в одном и том же черпают они свое вдохновение. В каждом тексте – свой голос, но все эти голоса говорят об одном.
Ядром Нового Завета являются четыре Евангелия. Это очень привычный факт, но что же он значит. А значит он именно то, что само евангельское благовестие в истоке своем принципиально соборно. Христиане первых веков не выбрали одно Евангелие (хотя, рассуждая житейски, хватило бы и одного, да и хватало: в каждой общине обходились, видимо, одним Евангелием, написанным для конкретной церкви конкретным апостолом) и не свели имеющиеся тексты в один (хотя попытки согласования евангельских рассказов и создания единого «сводного» повествования – «диатессарона» – известны уже с середины II века). Церковь отделила те писания, в которых выражалась исконная апостольская вера, от мифов и фантазий возникших на почве христианского благовестия, но ни эти отобранные писания не подверглись редактированию с целью превращения в монологичный текст, ни отвергнутые тексты, «апокрифы» не были уничтожены и дошли до нас благодаря христианским переписчикам, составив начало околоцерковной народной литературы.
Христианское Писание не монолитно, не монологично, но оно и не бессвязно, не фрагментарно. Дух соборного согласия дышит в нем. Очень показательно здесь сравнение с Кораном: примерно через двадцать лет после смерти пророка одно из собраний его проповедей (не первое и не единственное) было объявлено каноническим и единственно верным, а остальные записи, в том числе хранившиеся у вдов пророка, были объявлены ложными и сожжены68. Сожжены были и все подготовительные материалы, использованные при составлении канонического текста. И в то же время текст Корана не представляет собой единого целого, суры не образуют цельного повествования, логика отсутствует даже и рамках отдельных сур. Определенное единство стиля, присутствующее в Коране очевидно объясняется единичностью автора‑посредника (хотя сами мусульмане, естественно, относят это к единичности Автора с большой буквы).
Те же начала соборности, которые обнаруживаются в христианском Священном Писании, являются также фундаментальным основанием и христианского Священного Предания. И логически, и исторически правильнее было бы сказать наоборот, поскольку соборность Предания первична – и исторически, и логически – по отношению к соборности Писания. Священное Предание есть собственно сама жизнь христианской Церкви, церковная соборность в ее актуальной форме.
Подводя итоги сказанного в этом параграфе, нужно констатировать, что христианская духовная традиция дала мощный импульс развитию философской идеи соборности, что в рамках христианского богословия закладываются концептуальные основы принципа соборности бытия. Будучи сам по себе внерационален и располагаясь вне рамок философского мышления, христианский духовный опыт послужил источником и ориентиром для философской мысли о соборности, открыл возможности разработки этой идеи в качестве общефилософского принципа.
§ 4. Тема соборного единства в западноевропейской философии
Паламизм так и остался соврешенно непонятым и невоспринятым западной философской традицией. Развитие европейской философии с XI века связано целиком с западными духовными установками, которые целиком определяют направление и характер движения философской мысли даже в том случае, когда эта мысль пользуется наработками других культурных традиций. Как раз в том IX веке, когда «дух самостоятельного исследования покинул греков», в Западной Европе философия, напротив, все больше обретает собственный голос. «Каролингское возрождение» при Карле Великом с трудами Алкуина в самом начале IX века и системой Эриугены во второй его половине, арабская философия IX и X веков, – это и есть начало западноевропейского средневековья. При этом стоит отметить, что первая по времени и, безусловно, одна из первых по значимости философская система Иоанна Скотта Эриугены целиком определена восточно-христианским влиянием: «Прежде всего, Эригена опирается на Псевдо-Дионисия Ареопагита… затем на его комментатора Максима Исповедника, далее на Василия и Григория Назианзина и преимущественно на Григория Нисского и Оригена. Латинские отцы, особенно Августин, имеют для него лишь второстепенное значение»69.
Весьма показательно, что это зарождение философии неразрывно связано на Западе с обособлением разума из целостной духовной природы человека. Усиливающийся рационализм сознания и пробуждение в этом сознании философских запросов так тесно взаимно обуславливали друг друга в рамках западной культуры, что отождествились, в конечном счете, в ее рамках. Как нечто само собою разумеющееся даже и до сих пор звучит мысль о том, что существенным отличием философии от других форм духовной жизни является ее рациональный характер. Никого при этом не смущает изобилие «неправильной», не вполне рациональной или даже прямо антирационалистической философии. Рационализм есть некая «родовая травма» западноевропейской мысли, его стереотипы воспроизводятся ею даже непроизвольно и вопреки очевидности.
Западное средневековье сохраняет еще некоторую живую связь с духовными основами христианства, и потому в средневековой философии мы можем ощутить определенное идейное созвучие с принципами соборного единства. И в космологических, и в антропологических построениях, не говоря уже о теологии, ясно утверждается сверхрациональная основа единства бытия. И все-таки рационалистические мотивы проявляются в мышлении средних веков чем дальше, тем больше, находя свое классическое выражение в учении Фомы Аквината о вере и разуме как двух независимых и самодостаточных путях познания, о том lumen naturale rationis (естественном свете разума), который обеспечивает разуму возможность двигаться в познании, опираясь только на самого себя. В средневековой философии рационализм присутствует как тенденция, в Новое время он делается самодовлеющей и всеподчиняющей мировоззренческой установкой.
Новоевропейская философия существенным образом утрачивает опору на соборное единство духа, – такой диагноз ставили в свое время западной культуре старшие славянофилы. Иван Васильевич Киреевский определял этот разрыв с цельными основаниями цельного знания как «идеализм», Алексей Степанович Хомяков употреблял для обозначения этого коренного порока западной философии слово «рационализм», которое кажется нам несколько более точным. Впрочем, нельзя не сказать, что и Киреевский указывает на весьма существенное проявление западноевропейской «болезни» философии. Раскол философии на «материализм» и «идеализм» есть событие, относящееся, конечно, к XVII – XVIII векам. До этих пор не было ни материализма, ни идеализма в том их смысле, какой придает им Новое время. Новоевропейские материалисты и идеалисты могут видеть в античности и средневековье некие предпосылки своих концепций, могут называть Платона или Плотина идеалистами, а Демокрита с Эпикуром материалистами, но сами эти мыслители развивали свои взгляды в другой системе категорий. Выражения «античный идеализм», «античный материализм», конечно, имеют право на существование, но внимательное и непредвзятое изучение вопроса показывает, что античная философия представляет собою единый процесс развития взаимосвязанных учений, что «материалисты» и «идеалисты» античности были согласны друг с другом и опирались друг на друга гораздо больше, чем полемизировали. Как пишет С.Н. Трубецкой, «материализм Демокрита не есть "антитезис" Платонова идеализма, а один из результатов развития досократовской физики… Левкипп построил систему атомистического материализма чисто умозрительным путем, отправляясь от диалектики Парменида и Зенона… [атомистическая гипотеза] была создана Левкиппом, чтобы согласовать онтологию Парминида со старой ионийской физикой»70.
Новоевропейский раскол философского сознания на материализм и идеализм является, во-первых, следствием утраты философией соборных духовных оснований своего мышления. А во-вторых, рационалистическое разложение единства духа имеет следствием до некоторой степени утрату возможности видеть и понимать соборное единство бытия, сама тема соборности перестает укладываться в рамки такой философии.
Некоторую внешнюю аналогию с принципами соборного единства можно видеть в философии Лейбница, в его «монадологии». Монады, духовные атомы различной степени духовной просветленности, каждая из которых – отдельная и уникальная субстанция, соединены, тем не менее, в нерасторжимое единство наилучшим из всех возможных способов. Более того, связь монад друг с другом обеспечивается связью каждой их них – с Богом: «В простых субстанциях бывает только идеальное влияние одной монады на другую, которое может происходить лишь при посредстве Бога, поскольку в идеях Божьим одна монада с основанием требует, чтобы Бог, устанавливая в начале вещей порядок между другими монадами, принял в соображение и ее. Ибо, так как одна сотворенная монада и не может иметь физического влияния на внутреннее бытие другой, то лишь указанным способом одна монада может находится от другой в зависимости»71.
При этом, если говорить об иерархии монад, то «души вообще суть живые зеркала, или отображения универсума творений, а духи, кроме того, суть отображения самого Божества, или самого Творца природы, и способны познавать систему вселенной и подражать Ему кое в чем своими творческими попытками, так как всякий дух в своей области – как бы малое божество. Вследствие этого духи способны вступать в некоторого рода общение с Богом, и Он стоит к ним в отношении не только изобретателя к своей машине (каков Бог по отношению к другим творениям), но и в отношении правителя к подданным и даже отца к детям… Совокупность всех духов должна составлять Град Божий, то есть самое совершенное, какое только возможно, государство под властью самого совершенного Монарха. Этот Град Божий, эта воистину Вселенская Монархия есть мир нравственный в мире естественном и представляет собой наиболее возвышенное и самое божественное из дел Божиих; в нем и состоит истинная слава Божия»72.



