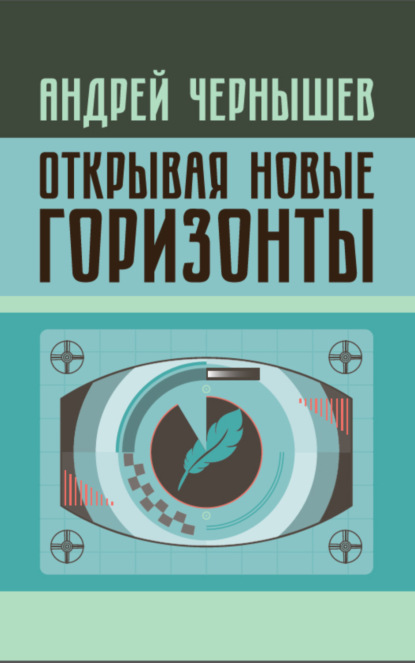 Полная версия
Полная версияОткрывая новые горизонты. Споры у истоков русcкого кино. Жизнь и творчество Марка Алданова
Контрасты остаются прежде всего литературным приемом: контрасты характеров, контрасты сцен. С политико-философскими спорами контрастируют эпизоды частной жизни персонажей. За изображением ночного Эмса, когда Александр идет на свидание, предстает "очарователем", как его называли, следует описание свидания совсем другого рода – случайной, казалось бы, встречи Желябова и Перовской.
Простые смертные в "Истоках", как в любой книге Алданова, не менее духовно богаты, чем исторические деятели. Трезво смотрящий на вещи, лишенный иллюзий ученый Муравьев, симпатичный жизнерадостный циник Черняков – они не проходят путь нравственного или религиозного искательства, они люди логики, опираются на факты, ищут опоры только в самих себе.
Многие ситуации и образы навеяны Толстым – вряд ли есть в русской исторической прозе другой роман, столь очевидно содержащий толстовские реминисценции. История болезни и смерти алдановского чиновника Дюммлера – вариация на тему смерти бедного Ивана Ильича, нравственный итог исканий главного героя «Истоков» левого журналиста и художника Мамонтова заставляет вспомнить толстовского Левина. Толстой был кумиром Алданова. Между тем, Толстой исповедовал исторический фатализм, Алданов же видел в истории всего лишь царство слепого случая.
Вставная глава в романе повествует о Берлинском конгрессе 1878 года. «Высокие договаривающиеся стороны» собирались добиться привилегий для своих стран и заложить основы прочного мира на европейском континенте, на деле их решения оказались миной замедленного действия, которая позже привела к первой мировой войне. Наивные чванливые аристократы взялись изменить «по справедливости» географическую карту, но создали опасный порядок вещей, намного худший, чем был до конгресса. К финалу повествования ритм убыстряется, развлекательность отходит на задний план, среди действующих лиц появляются кумиры будущего жестокого века, старик Маркс и подросток Ульянов.
В «Истоках» Алданова слились две традиции литературы, русская с ее «проклятыми вопросами», стремлением найти высшие нравственные ценности, логику истории, смысл бытия, и западноевропейская, которая ценит в книге прежде всего умелое построение сюжета, точность психологических характеристик, изящество слога. Ощущения трагического при чтении не возникает: романист смотрит на жизнь глазами историка, постоянно помня, что гибель великой империи или смерть выдающегося человека – лишь частный случай, окончание очередного акта пьесы под названием «история», а не действия в целом – оно продолжается, покуда существует человеческий род. Через десятилетия или века события удивительным образом вновь напоминают давно прошедшие, но узор каждый раз повторяется не буквально, складывается в чем-то по-новому – как в калейдоскопе, и остается только следить за переливами меняющегося узора.
В литературу роман «Истоки» входил своеобразно. Сначала в англоязычном варианте, сокращенном, – критики его хвалили, но продавался роман плохо, и Алданов это комментировал в письме Андрею Седых: «Кого в Америке могут интересовать народовольцы, Александр II и даже западноевропейские знаменитости 70-х годов!»263 В 1943–1946 годах фрагменты из романа публиковал «Новый Журнал», в 1950-м в Париже наконец вышло отдельное издание на русском языке, в двух томах, но и оно расходилось неважно. «Откуда было взяться в эмиграции безумцам, способным заплатить по 1500 франков за книгу?» – вопрошал Алданов Тэффи. Через сорок лет после первого издания роман был напечатан в Москве, вышел подряд тремя изданиями в начале 90-х годов почти двухмиллионным сумасшедшим тиражом. Пришелся, что называется, ко времени: начиналось переосмысление главных событий русской истории после десятилетий цензурного гнета, в стране был большой интерес к запретным прежде именам, а тяга к чтению в народе еще не умерла.
Получив двухтомник с дарственной запиской от автора – «Все же наименее плохая, по-моему, из всех моих книг», 26 февраля 1950 года И.А. Бунин тут же начал читать и, еще не закончив, делится с Алдановым первыми впечатлениями: «Нынче читал о подкопе, о Михайлове, Перовской с этим страшным припевом насчет турка – и всплескивал руками: ей-Богу, все это сделало бы честь Толстому!» Б.К. Зайцев писал менее эмоционально, но по сути повторял Бунина: «Роман Ваш отличный и прочно останется в литературе нашей»264.
Роман стал и отправной точкой любопытного обмена мнениями о путях русского исторического романа. В.А. Маклаков, прочитав журнальную публикацию, отправил Алданову письмо в Нью-Йорк: лучше бы исторических деятелей в произведения художественной прозы не включать, они либо «канонические образы» из учебников и неинтересны, либо «произвол романиста», наподобие Наполеона и Кутузова у Толстого, что еще хуже. «Вы можете по своим личным симпатиям и антипатиям не послужить истории, а ее обмануть». Алданов в ответном письме не соглашался с ним: «Так ли верно, что у каждого исторического лица есть «канонический образ»? Я писал когда-то, что «суда истории» вообще нет – это миф: есть суд историков, который меняется каждые 25-50 лет, да и в течение одного периода они во всем между собой расходятся: ведь «беспристрастные историки» есть во всех партиях. Без всякого сомнения, мое изображение того или иного исторического лица может быть оспорено, но то же самое верно в отношении профессиональных историков, даже больших. Разве не оспаривался Цезарь Моммзена? Разве не оспаривались знаменитые характеристики (царей. – А. Ч.) Ключевского <…>? Извините, что называю знаменитые имена как бы по поводу своего романа. Поверьте, что я себя с ними никак ни в малейшей мере не сравниваю, это было бы глупо. Могу только сказать, что литературу о выведенных мною исторических лицах изучал добросовестно и потратил на это годы».
Редактор «Нового журнала» М.М. Карпович писал в рецензии на «Истоки»: "Отрицая историю, Толстой уходил от нее к двум вечным полюсам: "высокому бесконечному небу", которое раненый князь Андрей видел над собой на поле Аустерлицкого сражения, и укорененной в земле родовой человеческой жизни (знаменитые "пеленки" в эпилоге "Войны и мира"). Кажется, ни то, ни другое Алданова не утешает. Во-первых, он не может уйти от истории, так как в отличие от Толстого обладает высокоразвитым историческим чувством. Во-вторых, в нем нет и следа толстовского руссоизма, нет никакого бунта против культуры. Напротив, человеческая культура и есть то, что он по-настоящему ценит и любит, – ценит и любит тем больше, чем яснее представляется ему ее хрупкость. Он гуманист, не верящий в прогресс. И это придает его мироощущению трагический характер"265.
После публикации «Истоков» в журналах русской эмиграции появились две в корне противоположных оценки романа: поэт Георгий Иванов увидел в нем проповедь безверия и скептицизма, нашел его вредным, историк М. Карпович, напротив, назвал «Истоки» лучшим произведением Алданова, продолжающим толстовскую литературную традицию. В дальнейшем в русской зарубежной критике возобладал именно этот взгляд: многие мемуаристы и критики считают «Истоки» выдающимся историческим романом. Хотя роман привлек внимание англоязычных читателей, а в 1953 г. был опубликован в Барселоне в переводе на испанский язык, Алданов предназначал его в первую очередь соотечественникам. Сейчас роман воспринимается как живое явление литературной жизни, хотя в нем воссозданы давние события: споры во второй половине XIX века о путях исторического развития России, противостояние радикалов и консерваторов, разговоры о связи политики и нравственности характерны и для наших дней. Связь времен – главная тема Алданова, его исторические полотна остаются злободневными. Но в ранних произведениях писателя тема связи времен, по мнению некоторых критиков, часто была излишне педалирована. Например, его Наполеон размышлял о выгоде стратегической позиции на Марне («Святая Елена, маленький остров»), и читателю 1920-х годов не оставалось иного, как вспомнить недавнюю битву под Верденом. Зрелый, достигший более высокого мастерства автор «Истоков» идет по другому пути: его герои также задумываются над будущим, но их прогнозы постоянно не сбываются, их планы на будущее рушатся. Полон иронии эпизод, когда один из героев, положив деньги в банк, объявляет, что на проценты через пятьдесят лет, в 1928 году, будет издана книга – биография его начальника по службе графа Канкрина.
Обширная галерея персонажей многопланового повествования – вымышленных героев и исторических деятелей – воплощает в «Истоках» авторский тезис о противостоянии интеллигенции самодержавию как характерной черте общественного развития России перед 1 марта 1881 года. Это противостояние, по Алданову, стало импульсом дальнейшего революционного развития. Каждый из персонажей выбирает свой путь: профессор ищет независимости от властей, левый художник рисует Стеньку Разина и едет знакомиться с Бакуниным, народовольцы замышляют убийство царя. Вместе с тем характеры напоминают персонажей, созданных ранее Алдановым в «Мыслителе» и трилогии; и в тех и в других перемешаны свет и тени, положительные качества почти в каждом преобладают над отрицательными.
В большей степени, чем любое другое произведение Алданова, «Истоки» связаны с русским историческим романом XIX века. Но, современник Соловков и Хиросимы, Алданов по-новому интерпретирует известные события русской и европейской истории. Размышляя о культурной традиции, сталкивая героику и будни, анализируя поведение человека перед лицом смерти, он, по существу, остается в кругу вечных тем, но главный его мотив – бессилие человека перед потоком исторических событий, тщетность исторических деяний. Этот горький мотив контрастирует с внешней легкостью занимательного повествования: композиция выразительна, сюжет включает элементы высокой трагедии, мелодрамы, криминальной истории.
12.
Как помнит читатель, Алданов приехал в Америку с очерком «Убийство Троцкого», продолжал писать очерки на разные другие темы. Потом неожиданно для многих оставил этот жанр, жанр, который в 20-30-е годы принес ему европейскую известность. Очерки Алданова тогда печатали газеты разных стран, от Швеции до Испании. Но сам он этот жанр недолюбливал. Называл его литературной поденщиной, говорил, что пишет очерки исключительно ради заработка. В Америке военных лет, в отличие от довоенной Европы, ему не удавалось их публиковать по-русски, и отрыв от русского читателя стал, надо думать, веским аргументом при принятии решения впредь очерки писать почти исключительно как вставные главы в романах.
Было еще одно важное обстоятельство. Алданов пристально следил за развитием военных событий, особенно на русском фронте, но создавать очерки на эту тему «из головы», как он выражался, – не решался. Писателя в эту пору привлекают актуальные политические темы, на смену очеркам в его творчестве приходят рассказы. Публикацию первых своих рассказов в «Новом журнале», в первом номере от 1942 года, Алданов предваряет такой заметкой: «Автор не чувствовал себя способным писать на темы, не имеющие отношения к происходящим в мире событиям».
Однажды писатель в рассказе допустил погрешность против фактов, его ошибка по-своему характеризует эпоху. В рассказе «Истребитель» изображена Ялта во время конференции 1945 г. с участием Сталина, Рузвельта и Черчилля. Среди жителей города фигурируют крымские татары. И на ум не могло прийти писателю, что весь этот небольшой народ был к тому времени депортирован, а западные журналисты, приехавшие в Ялту писать репортажи о саммите, не заметили его исчезновения.
Такие ошибки у Алданова – большая редкость.
Излюбленной темой писателя стала тема исторического прогноза, тема модная. Мечтали о будущей мирной жизни, пытались представить себе ее контуры. В СССР, например, вышел на экраны фильм с характерным названием: «В шесть часов вечера после войны». Но только у Алданова эта тема вышла за рамки частных романтических историй, вошла в творчество как самостоятельная футурологическая часть.
Над несбывшимися историческими прогнозами принято иронизировать. Говорят, они составляют 99% всех исторических прогнозов, но если так, не приходится ли оставшийся 1% на случайные совпадения? Язвительный Клемансо был прав, поучая молодых журналистов: предсказывать нужно только то, что уже было. В «Истоках» Алданов формулу Клемансо как бы вывернул наизнанку: вложил герою 1870-х годов предсказание будущего, которое так и не исполнилось. Опираясь на цитаты из авторитетных источников, статистические данные, таблицы, его Мамонтов предсказывает… быструю неизбежную гибель Соединенных Штатов! Улыбнись, современный читатель.
Разумеется, писатель не мог обойти вниманием очень редкие сбывшиеся прогнозы. Один из американских очерков Алданова посвящен такому эпизоду. За несколько месяцев до начала Первой мировой войны отставной министр внутренних дел П.Н. Дурново обратился к Николаю II с запиской-предупреждением: что произойдет с Россией, если она позволит втянуть себя в войну? Будто сквозь магический кристалл увидел Дурново и военные поражения, и рост недовольства в стране и в армии, и падение царского режима, а затем хаос, диктатуру, и даже революцию в Германии. Казалось бы, размышлял Алданов, впору ожидать, что контуры будущего смогут разглядеть люди передовых убеждений, поборники прогресса… – но, вопреки логике, уникальный прогноз сделал сановник сыскного ведомства, автор крылатого мрачного афоризма: «Никогда я ни одному человеку не верил и не имел случая об этом пожалеть». Остановившись перед вопросом: на какое же начало в человеке вернее ставить – на светлое или темное? – Алданов с пунктуальностью ученого пытается прогнозы систематизировать. Прогнозы поэтов – как молниеносные озарения, прогнозы ученых – как плод углубленных длительных размышлений.
К какому разряду Алданов отнес бы свои собственные исторические прогнозы? Думаю, ко второму. Наиболее известный из них – в рассказе «Фельдмаршал», напечатанном в «Новом Журнале». Написан рассказ был в июле 1941 г., сразу после нападения Германии на Советский Союз, а время его действия – предвоенные годы. Герой, один из высших военачальников Третьего рейха, едет в Берлин, чтобы встретиться с Гитлером и убедить того ни в коем случае не начинать войну, которая, по его мнению, обречена на поражение. Последующая цепочка событий фельдмаршалу и, по-видимому, самому писателю, видится такой: военные поражения, отказ Гитлера идти на мирные переговоры, наконец, заговор высших офицеров с целью отстранить Гитлера от власти.
В 1942 году в различных американских русскоязычных изданиях, кроме «Фельдмаршала», появляются сразу еще четыре его рассказа: "Грета и Танк", "Микрофон", "Тьма", "На "Розе Люксембург". Это остросюжетные отклики на злобу дня, в них действуют тайные агенты, воссоздаются военные приключения. В рассказе "Микрофон" сюжет связан с обеспечением безопасности Черчилля во время его радиовыступлений, в рассказе "Тьма" изображено убийство немецкого генерала французскими патриотами.
По горячим следам событий конца второй мировой войны Алданов создал рассказ "Астролог" (1947). Еще не стали известными детали двойного самоубийства Гитлера и Евы Браун в берлинском бункере, в частности самая колоритная: перед роковой развязкой вдруг находившиеся в бункере техники, прислуга завели патефон, и под звуки шлягера "О, бескрайняя весна…" пары закружились в безумном танце. Этот танец как смеховое расставание с самой страшной страницей в истории немецкого народа, его нельзя было придумать, он превосходил любое воображение.
Не зная подробностей ужасной картины конца Гитлера, Алданов сознательно ушел от их описания, не стал фантазировать. События изобразил глазами персонажа, который болен и пришел в себя, когда уже горели завернутые в белое трупы, а в город вступали советские воинские части.
Небольшой по объему рассказ по-алдановски емок. Писатель показал страх населения перед нацистами, конформизм властей, общий ужас перед надвигающимся концом "тысячелетнего рейха". Общей картине развала сопутствовало увлечение оккультизмом, и не без ироничного умысла автор избрал героем астролога – пожилого усталого жулика. Напрашивается параллель: Профессор – Фюрер. Первый одурачивает лишь тех, кто хочет быть одурачен, второй пролил море крови. Внимание читателя удается привлечь с первых же строк интригующим письмом астролога о гороскопах.
13.
Десять лет разделяют романы Алданова «Начало конца» и «Живи как хочешь». «Живи как хочешь»266 увидел свет в 1952 году. Как изменился мир за эти десять лет! Отгремела, ушла в прошлое вторая мировая война, началась новая война, на этот раз холодная (горячая шла в Корее), был последний год жизни Сталина. Алданов же – не изменился. Как и в молодые годы, повторял, что удел человеческий, счастливый, злосчастный, сотворяется случаем, счастье видел не в том, чтобы найти, а в том, чтобы искать, иронизировал над всем миром и над самим собою.
Он задумал написать такой роман, который бы заинтересовал и читателей, и издателей в разных странах, стал бы международным бестселлером. Не из русской истории, не из жизни сталинского Советского Союза. По канонам массовой литературы место действия «Живи как хочешь» то курортная Ницца, то борт океанского лайнера, курсирующего между Европой и Америкой. Под стать был разработан и сюжет с элементами детектива и мелодрамы, двумя криминальными историями, одной с наркотиками и кражей бриллиантов, другой политической, с международным шпионажем, среди действующих лиц закоренелый злодей и его страдающая жертва, бескорыстный благородный шантажист. Как в доброй старой пьесе, волею автора в одной из последних сцен «Живи как хочешь» все персонажи вдруг оказываются вместе на пароходе, и это дает возможность развязать запутанные сюжетные узлы. Конечно же, действие заканчивается хеппи-эндом, наказанием порока, торжеством добродетели.
Но большой русский писатель просто был не в силах написать романа, целиком вписывающегося в западные развлекательные стандарты. Алданов своим произведением вмешивался в разгоревшуюся полемику поборников элитарной и массовой культуры, пытался крайности совместить, сделать роман интересным и для читателя-интеллектуала. Помимо легковесного верхнего слоя в романе есть по-алдановски серьезная сердцевина – диалоги о нравственности, о связи времен, о политике, о литературе и искусстве.
Алданову было 65 лет, когда вышел роман. Он много болел и собирался романом «Живи как хочешь» завершить свою многотомную серию, воплощающую события русской и европейской истории двух последних столетий. На страницах серии действуют цари, полководцы, революционеры, изображены их звездные часы, Суворов совершает беспримерный переход через Альпы, умирает Наполеон на острове Святой Елены… А закончить серию писатель намеревался романом о современниках – о простых смертных, простом человеческом счастье. Похоже, намеревался опустить занавес в момент радости, дабы не говорить, что будет потом.
Судьба распорядилась по-своему, писатель прожил еще четыре с лишним года и выпустил четыре книги. Самым поздним по времени действия стал в серии роман «Бред». А умер, когда в нью-йоркской газете «Новое русское слово» печатался с продолжениями последний его роман «Самоубийство», где изображен Ленин. «В сущности, в художественной форме о Ленине пока никто не писал; макулатура советских подхалимов в счет не идет», – писал он за полгода до смерти.
В «Живи как хочешь» многие персонажи перешли из прежних книг Алданова, это новая встреча через много лет с полюбившимися ему героями и сентиментальное прощание с ними. Надежда Ивановна из «Начала конца», Виктор Яценко и Дон Педро – Пемброк из трилогии «Ключ» – «Бегство» – «Пещера», Николай Дюммлер из «Истоков», Макс Норфольк из рассказов. Русские эмигранты даны преуспевшими, пустившими новые корни на Западе. Для них оставленная родина – главная любовь в жизни, но ни один не помышляет о возвращении домой, потому что в советской России нет свободы. Судьба Алданова – доказательство, что сильные духом и талантливые могут найти себя и на чужбине. Таких он и взял героями.
«Начало конца» и «Живи как хочешь» можно назвать дилогией внутри серии Алданова. Оба эти романа рисуют современность, а не события прошлого, в обоих действуют только вымышленные персонажи, в «Живи как хочешь» дана развязка сюжетной линии одного из персонажей «Начала конца», посла Кангарова. И все же два романа, очень схожие по творческому почерку, различны, как, по Алданову, различны характеры советских людей и эмигрантов: даже самых порядочных людей тоталитарный режим деформирует. Но в романе, увидевшем свет в последний год жизни Сталина, писатель предсказывал, что и в Советском Союзе дело свободы, каким бы безнадежным оно ни казалось в то время, в конечном счете восторжествует: «Какое счастье, что в душу человека заложена эта непонятная любовь к свободе и правде! Искорка эта слаба, она еле заметна, она часто почти гаснет, она исчезает в одном месте и проскакивает в другом, но в ней есть своя огромная сила… Для меня есть одна ценность, и по сей день совершенно бесспорная: это свобода».
Первоначально писатель предполагал назвать свой роман «Путь к счастью» или «Освобождение». Затем, по совету переводчика романа на английский язык Н.Р. Вредена, обратился к упоминаемому без указания источника в тексте романа афоризму Эпиктета из его «Бесед»: «Свобода не что иное, как право жить как хочется. Ничего более». Вариант названия «Живи как хочется» одобрил И.А. Бунин, у которого Алданов спросил совета: он, по его словам, «всех и везде будет заинтриговывать, многим будет очень нравиться, некоторых будет возмущать, что тоже отлично». Алданов письмо Бунину от 19 марта 1952 года начал так: «Дорогой друг! Я по-настоящему тронут, чрезвычайно тронут тем, что Вы, несмотря на слабость и нездоровье, сочли возможным тотчас мне ответить. От души Вас благодарю. Разумеется, так и назову роман: «Живи как хочется». Однако и в этот вариант заголовка он в последний момент (рукопись уже была в издательстве) внес правку, заголовок в конечном счете стал таким: «Живи как хочешь». Смысл правки, по-видимому, состоял в том, чтобы подчеркнуть связь нового романа с «Началом конца», где командарм Тамарин, приехав в Париж, формулирует для себя отличие тамошней жизни от московской: «Да, здесь ГПУ нет. Не убивай, не грабь, не воруй и тогда живи как хочешь».
«Живи как хочешь» Алданов писал одновременно со сборником историко-философских диалогов «Ульмская ночь». В романе он воплотил нравственные жизненные принципы, не претерпевшие изменений со времен Экклесиаста: могут быть счастливы только те, кто помогает другим людям, в крайнем случае никогда не приносит зла. Отдельные грани своего «я» Алданов раздал трем персонажам: жажду помогать всем, кто нуждается в помощи, бескорыстному Максу Норфольку; привычку сыпать афоризмами и цитатами престарелому Дюммлеру; свои раздумья над художественным творчеством он вложил писателю Яценко. Алданов стремился избежать повторения в Яценко Вермандуа из «Начала конца»: Яценко не маститый прозаик, а начинающий драматург, выходец из России, а не француз, он много моложе, чем Вермандуа. Читатель «Пещеры» расстался с юным эмигрантом Виктором Яценко в 1919 году – тот собирался возвратиться на родину и участвовать в борьбе против красных. О двух десятилетиях, прожитых им в СССР, о новом бегстве его на Запад, о том, как он пришел в литературу, в романе сказано всего в нескольких словах, но прежняя авторская теплота к герою сохранилась. Иной стала, чем в «Начале конца», Надежда Ивановна: изменилась к лучшему, сделавшись эмигранткой. Но Антонину Семеновну, Тони, олицетворявшую в романе худшие свойства человеческой натуры (наркоманка, добровольный агент советской госбезопасности), Алданов взял в качестве нового персонажа – герои прежних книг слишком дороги ему. Он склонен прощать людям их недостатки и слабости, со страниц романа звучит: «совершенных мерзавцев на свете не так уж много, не больше, чем совершенно порядочных людей», обычный человек «хуже, чем Ганди, лучше, чем Гитлер», и все же Тони подводит к крушению.
В современности Алданов как исторический писатель видит часть исторического процесса. Эпоху он рисует немногими, но выразительными деталями. Во вставной пьесе «Рыцари Свободы» действие происходит в 1820 годы, и герой, собираясь переехать в Нью– Йорк, облюбовал себе дом с садом на Уолл-стрит, думает завести лошадей, коров и овец, они будут пастись на Бродвее. Такая колоритная подробность несомненно адресована нашему современнику: пусть он вспомнит, что в те годы численность населения Нью-Йорка была всего 150 тысяч человек, в десять раз меньше, чем Парижа!
Персонажи пьесы узнают о смерти Наполеона, и замыкается круг: свою серию Алданов в 1921 году начал с повести о его последних днях, «Святая Елена, маленький остров». Мысль его обращается не только к прошлому, но и к будущему. Тоталитарный режим в Советском Союзе всем вокруг казался нерушимым и всесильным, но Алданов давно уже думал, что стал свидетелем начала конца этого режима. В книге, задуманной в качестве своей последней, своего рода завещания, он обратился к теме, которая современниками не предугадывалась, но его очень волновала: какой будет Россия после падения большевиков? Разумеется, сколько-нибудь систематической картины будущего предугадать не дано, но отдельные ее детали писатель с удивительной прозорливостью разглядел. Его Тони с вызовом и рвением отстаивает национально-патриотическую идею, и, действительно, этой идее спустя десятилетия оказалось суждено вновь, как в годы борьбы западников и славянофилов, стать в центре общественных споров о путях развития России. Из своего старого очерка Алданов перенес в роман мысль, что, после того как будет упразднен обязательный государственный атеизм, получат необычайное распространение черная и белая магия. Сбылось и это, внешне парадоксальное, предвидение. Он задавался вопросом, который стал актуальным в наши дни: «Говорят, там на службе у ГПУ состоят миллионы людей. Что же, казнить их всех после падения большевиков? Нет…» Он размышлял о судьбах искусства в будущей России и приходил к такому выводу: из России не «посыпятся шедевры, как только она станет свободной. Огромное понижение умственного и морального уровня скажется на всех, даже на самых лучших».



