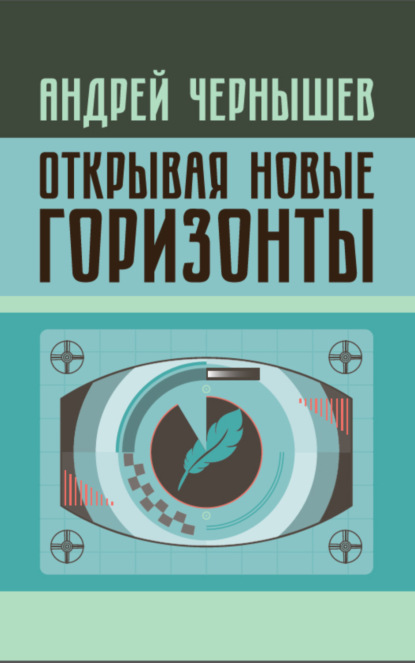 Полная версия
Полная версияОткрывая новые горизонты. Споры у истоков русcкого кино. Жизнь и творчество Марка Алданова
Роман "Бегство" публиковался в журнале "Современные записки" в 1930 – 1931 годах. В этом романе те же персонажи-интеллигенты, что и в «Ключе», но даны они с большей симпатией: под воздействием увиденного в первый год Октября в лучших из них пробуждается гражданское начало, они пытаются бороться против торжествующего зла, их бегство на Запад дано как вынужденное после поражения.
В 1932 году выходит отдельное издание этого романа, и в предисловии автор сообщает: "К людям "Ключа" – "Бегства" я, быть может, еще вернусь". Он уже пишет третий том трилогии, роман "Пещера» – о безотрадной жизни эмигрантов. Страсти остыли, герои плохо вписываются в чуждый быт, им вновь стали присущи равнодушие, апатия. Трилогия – взгляд с другого берега на 1917 год, тройной портрет на фоне быстро сменяющихся декораций. Книга вышла в двух томах в разных издательствах, том первый в 1934, второй в 1936 году.
Трилогия потребовала двенадцати лет напряженного труда Алданова и стала одним из главных его произведений246. Но Алданов не получил, закончив ее, хора похвал. Слишком властно требовала отклика текущая современность, приближалась вторая мировая война, тема трилогии, русская революция, на некоторое время для западного читателя оказалась отодвинутой в тень. Когда был издан "Ключ", его почти сразу же перевели на пять языков, "Пещеру" перевели только на польский и только первый том. Было и другое обстоятельство: из трех романов "Ключ", несомненно, наибольшая удача Алданова, "Пещера" – наименьшая. Продолжения удачно начатых произведений литературы, кино, театра чаще всего оказываются сравнительно слабыми.
И все же значение трилогии Алданова трудно переоценить. Это единственное в своем роде широкое полотно, взгляд с Запада на русскую революцию, на ее предысторию ("Ключ"), на вынужденное бегство многих, на тщетность попыток найти пещеру – убежище, спрятаться от чужбины-кручины.
В отличие от серии "Мыслитель" писатель почти полностью отказался от изображения исторических персонажей. События недавнего прошлого еще не остыли, не отошли далеко в историю, и Алданов меньше всего хотел, чтобы споры вокруг его книг шли о том, достоверно ли он изобразил, скажем, Короленко или Горького. Каждый из читателей имел собственное к ним отношение и вряд ли изменил бы его под воздействием художественной литературы. Поэтому Алданов бегло вывел только одно историческое лицо на страницах романа "Ключ", Шаляпина, который споров не вызывал, а о других знаменитых современниках лишь вложил суждения в уста вымышленных персонажей.
Один и тот же круг вымышленных персонажей объединяет трилогию.
Раскрывая свой замысел, Алданов писал в предисловии к "Бегству": "На фоне перешедших в историю событий только проявляются характеры людей". Очень знаменательно, что характеры, выбранные писателем, почти все ординарны, малозначительны. На страницах романа "Ключ" проходит вереница мельтешащихся, обремененных суетными заботами интеллигентов: неутомимый репортер дон Педро напряженно ищет знаменитостей для газетного интервью, адвокат Семен Исидорович Кременецкий готовится к торжественному юбилею, молодые люди собираются поставить любительский спектакль и увлеченно обсуждают роли.
В "Пещере" важен такой диалог:
"– Разве вы пишете книги?
– Одну написал. Она называется "Ключ".
– "Ключ". Это книга по химии?
– Нет, это философская книга. Книга счетов".
Книгой счетов называет свой "Ключ" сам автор.
Большинством читателей конца 1920-х годов "Ключ" воспринимался как современный роман, события, в нем воспроизведенные, были частью их собственного недавнего жизненного опыта. Но Алданов видел в современности движущуюся историю и считал себя вправе предъявлять нравственный счет тем, кто привел Россию к катастрофе.
Поначалу читателю трудно схватить, что действие происходит в разгар первой мировой войны, уютный гореупорный мирок прочно отгородился от драм большого мира. Лишь самые умные, как Федосьев и Браун, мрачно повторяют: Российская империя катится в бездну. Но и они только разговаривают…
Выразителен один из заключительных эпизодов романа: объяснение в любви на заснеженной петроградской улице. Лирическую эту сцену прерывает описание очереди: несчастные голодные люди с ночи стоят за хлебом. Кажется, в воздухе разлито предчувствие грядущих потрясений. "Есть редкое обаяние у великих обреченных цивилизаций, – говорит Браун. – А наша одна из величайших, одна из самых необыкновенных…"
Браун и Федосьев, по воле автора, подобно Пьеру Ламору, не
участвуют в действии, они только комментируют события, не споря между собой, лишь дополняют один другого. Они резонеры-двойники, хотя их социальное положение весьма различно: Браун – химик, левый интеллигент, подозреваемый в убийстве, Федосьев – глава тайной политической полиции.
Устами Брауна Алданов предлагает романтическую концепцию двоемирия: в мире А все кажется разумным, логически объяснимым, все дает основания для оптимизма и катится до поры до времени по накатанной колее. Но в этот уютный мир вдруг непредсказуемо врывается скрытый мир В, сущность вещей, исполненная жестокости и злобы. Эта концепция призвана объяснить надвигающуюся Февральскую революцию.
Поскольку все персонажи романа "Ключ", кроме Брауна и Федосьева, заурядны, заставить читателя следить за их судьбами легче всего было с помощью острого сюжетного хода, увлекательной интриги. К моменту появления романа "Ключ" у Алданова была репутация серьезного исторического писателя. Новая его книга неожиданно начиналась как детектив. Сможет ли писатель обновить жанр, к которому большинство критиков относилось пренебрежительно?
…Труп банкира Фишера. Версия об убийстве. Расследование.
Николай Петрович Яценко – честный, преданный своему делу следователь.
Подозреваемые. Различные версии о мотивах преступления и личности преступника. То против одного, то против другого персонажа выдвигаются, казалось бы, неопровержимые улики…
Но каждый раз система доказательств рушится, логика здравого смысла обнаруживает свою несостоятельность. Тем временем стержневой вопрос "кто преступник?" отодвигается на второй план, оказывается неважным: на страницы книги врывается Февральская революция. Американский литературовед Николас Ли, автор многочисленных работ об Алданове, в книге, посвященной его романам, убедительно доказывает, что над избранной писателем сюжетной схемой витает тень Достоевского247.
Слово "ключ", вынесенное в заголовок, многозначно. Летит с моста в реку ключ от квартиры, который мог бы стать уликой для следствия. Автор, без сомнения, хотел подобрать ключ к событиям Февральской революции, дать им свою трактовку. В самом широком смысле "ключ" – это универсальный ключ к пониманию судеб человечества, истории, который пытаются найти в философических беседах Федосьев и Браун.
Алданов достигает необыкновенного лаконизма и пластичности в заключительных сценах романа. Февральская революция, "невеселый праздник на развалинах погибающего государства", представлена сценой, когда ликующая толпа несет на руках освобожденных из тюрьмы узников. На переднем плане проплывающая над головами демонстрантов фигура Загряцкого, тайного агента охранки по кличке Брюнетка: его ошибочно приняли за жертву старого режима! Вновь звучит алдановская тема иронии судьбы. А на заднем плане этой выразительной сцены горящее здание суда, символ грядущих беззаконий. "Может быть, и всему конец… Ведь это Россия горит!" – думает Яценко.
"С убежденною силой истинного художника Алданов показал нам, разумеется, не всю правду (это невозможно), а ту правду, которую он увидел в людях и жизни", – так подытожил свои впечатления от романа М. Цетлин в статье, напечатанной в журнале "Современные записки"248.
В "Бегстве" есть ряд сильно написанных сцен, в которых чувствуется рука мастера. Образ начинающегося произвола возникает в сценах расправы над ни в чем не повинным Николаем Яценко. Выразителен жестокий финал романа: потопление баржи с заключенными. В ряду персонажей появляется сатирический образ женщины-комиссара Ксении Каровой. Алданов полемизирует с советскими писателями, романтизировавшими подобный тип.
Отношение автора к другим персонажам становится более
сочувственным. Почти каждому из них революция принесла тяжкие испытания, нельзя не сострадать человеческой боли. Разумеется, Алданов-эмигрант симпатизирует и неудавшемуся заговору. Вместе с тем в изображении Фомина, Нещеретова, Горенского он сохраняет ироническую нотку. Они рассуждают о кровной любви к России, но главным образом озабочены устройством своих денежных дел. Майор Клервилль покороблен новыми революционными порядками: как можно сажать прислугу за один стол с господами! Даже "мудрецы" из "Ключа", Браун и Федосьев в "Бегстве" снижены, стали мельче.
Проницательный критик Владимир Вейдле, анализируя роман, высказал следующее любопытное соображение. Героев русской классической литературы XIX века вопреки школьным учебникам нельзя назвать типами, они слишком яркие индивидуальности. Фердыщенко и Раскольников, любой солдат или помещик у Л.Н. Толстого прежде всего личность, а изображению характерного для времени и среды, типического, он отдает только излишки своего "я". Тургенев заявлял, что ставил себе целью воплотить тип лишнего человека, но для его Базарова рамки "типа" определенно слишком узкие.
Приемы изображения человека у Алданова те же, что у
писателей-классиков, но его предмет иной: он подобно Олдосу Хаксли, Роже Мартену дю Гару исходит из убеждения, что в людях больше сходств, чем различий, что они в главном повторяются. Персонажи "Бегства", писал Вейдле, как вместе запечатленные на фотографическом снимке члены одной семьи249.
Вейдле, думается, был не вполне прав, не у всех русских
классиков XIX столетия преобладало стремление подчеркнуть в героях
неповторимое. В романе Герцена "Кто виноват?", например, читаем, что к
помещику Негрову "…изредка наезжал какой-нибудь сосед – Негров под другой фамилией". У писателей – по преимуществу художников герои перерастали свою эпоху, у писателей – по преимуществу публицистов они ей точно соответствовали. Алданов, как и Герцен, относился к последним.
Повторяемость – свидетельство заурядности. Не была ли задумана Алдановым повторяемость-заурядность персонажей как ключ к пониманию их поражения и вынужденного бегства? О том, что подобное предположение не лишено оснований, свидетельствует важная мысль, сформулированная Алдановым в рецензии на книгу П. Муратова "Эгерия": "Искусство исторического романа сводится (в первом сближении) к "освещению внутренностей" действующих лиц и к надлежащему пространственному их размещению, – к такому размещению, при котором они объясняли бы эпоху и эпоха объясняла бы их"250.
На третью часть трилогии, "Пещеру", написал рецензию Владимир Набоков. Отметив правильность строения романа и изысканную музыкальность авторской мысли, он главное место уделил персонажам. Как бы развивая взгляд Вейдле, Набоков замечал: "На всех них заметна печать легкой карикатурности. Я употребляю это неловкое слово в совершенно положительном смысле: усмешка создателя образует душу создания"251. Набоков был далек по творческой манере от Алданова, но важнейшую особенность его прозы сформулировал очень точно.
В "Пещере" нет острой сюжетной интриги, роман состоит из отдельных слабо связанных между собой сцен, рисующих житье-бытье русских эмигрантов на Западе. В сравнении с первыми двумя частями трилогии в "Пещере" заботы, проблемы персонажей становятся еще более будничными. Писатель рассматривает, вписывается ли каждый из них в новую для него действительность: кто-то разбогател, другой, по контрасту, превратился из магната в одного из "бедных родственничков Европы". Неудачников большинство, они тоскуют, раздражаются, жалуются: "Пока деньги оставались, с ней еще разговаривали как с равной – и то не совсем, а почти как с равной. Но если растают последние гроши, что тогда?" Два персонажа, в начале трилогии самых крупных, добровольно уходят – Федосьев в католические монахи, Браун вообще из жизни. Никакой апологии эмиграции, горькое чувство тщеты и хрупкости бытия.
Брауну приписано авторство вставной новеллы из эпохи Тридцатилетней войны. Эта новелла "Деверу", возможно, восходит к
неосуществленному замыслу Алданова написать роман о XVII веке. В ней происходят бурные драматические события, контрастирующие с эмигрантским безвременьем: убивают Валленштейна, отрекается Галилей. Горькие диалоги о природе побеждающего зла, об опасности любой новой идеи, завладевающей умами, перекликаются с современностью, в ряду персонажей появляется мудрый Декарт, и в уста ему писатель вкладывает такую максиму: "Та правда, которая при первом своем появлении выражает намеренье осчастливить мир, внушает мне смертельный, непреодолимый ужас. Палачей всегда приводили за собой пророки. Ибо все они были и лжепророками – для значительной части людей".
Подобно А.Н. Толстому, не предполагавшему, что «Сестры» станут первой книгой трилогии «Хождение по мукам», Алданов, создавая «Ключ», тоже не собирался писать продолжения, а заканчивая «Бегство», не замышлял «Пещеру». Хотя каждый роман задумывался самостоятельно, трилогия Алданова отличается цельностью и внутренним единством. Сравнивая ее с «Хождением по мукам», исследователь «русской литературы в изгнании» Г.П. Струве решительно отдавал предпочтение трилогии Алданова, находил в ней больший историзм, объективность и глубину.
Критиками было замечено: Алданова в истории больше привлекают люди, чем события, его постоянная тема – воздействие событий на характеры. Персонажи трилогии отражаются в трех зеркалах. В канун Февральской революции они еще не жертвы истории, но, сконцентрированные на самих себе, уже обречены, исторический поток начинает их захлестывать («Ключ»). Грандиозные события 1917—1918 годов вовлекают каждого в свой водоворот, в далеких от политики людях пробуждаются черты общественных деятелей («Бегство»). Оказавшись в эмиграции, герои трилогии снова уходят во внутреннюю жизнь, оторванные от родины, страдают, тяготятся бесцельностью бытия («Пещера»).
Ироничная интонация, характерная для начала повествования, постепенно отступает, начинает преобладать сочувствие. Алданов сам был одним из тех, кто лишился состояния в результате революции, вынужден был бежать за границу, жизнь его раскололась надвое. Но он и не помышлял о плакатной задаче возвеличить в романах белое движение и осудить революцию. Писателю была свойственна беспристрастность ученого, слишком сильно было в нем скептическое начало, чтобы однозначно принять ту или иную сторону: «Неясно и не бесспорно, что такое зло…» («Пещера»). Трилогия создавалась в годы «великого перелома» в СССР, кровавой коллективизации и первых показательных процессов, в Германии пришел к власти Гитлер, в Италии усиливался террор Муссолини. Развитие событий подводило Алданова к трагическому выводу, что человечество движется назад, «черт на пути ко всемогуществу». Очень характерно, что в «Бегстве» наиболее лояльный к революции Николай Яценко становится ее жертвой, а те, кто участвовал в заговоре против нее, спасаются. Возникает алдановский мотив иронии судьбы, тщетности попыток воздействовать на события: все решает случай.
В трилогии писатель развивал свой взгляд на человеческую природу, противопоставляя две жизненные позиции, два типа – людей действия и людей аналитического ума. Он отдавал должное первым, подчеркивая в них целеустремленность, своеобразное обаяние, но Кременецкий, дон Педро, Загряцский, при всей разнице их возрастов, социального положения, одинаково пошловаты. Симпатии автора на стороне другого типа – идеалистов, интеллигентов-острословов типа, восходящего к Пьеру Ламору из «Девятого термидора». Браун, Федосьев, отчасти Горенский, также при всех их различиях представлены особого свойства резонерами. Исторические катаклизмы, выпавшие на их долю, заставляют их задумываться над «вечными» вопросами, однако в отличие от героев Достоевского и Толстого их больше, чем бессмертие души, волнует преемственность культуры (внимание В.В. Набокова привлекла сцена в «Пещере», когда скептик Браун перед самоубийством ищет в словаре статью «Бессмертие» – о бессмертии герой, по-видимому, задумался впервые). Персонажи Алданова, как он сам, опираются только на факты, которые они могут доказать и проверить умом, но совершенная трезвость взгляда, отказ от «возвышающего обмана» в конечном счете, свидетельствует автор, приводят к нравственной пустоте, даже к гибели. Алданов считал отличительной чертой русской классики XIX века традицию «беспощадной правдивости» и стремился ей следовать.
Сопоставляя два типа героев, Алданов сравнивает, кроме того, модели поведения мужчин и женщин. Рельефны его Муся, которая проходит путь от восторженной романтической девицы до искушенной светской дамы, Тамара Матвеевна, скромная, преданная жена (этот образ часто варьируется у Алданова, не без умысла писатель дал этой героине, а позднее в «Самоубийстве» Татьяне Михайловне Ласточкиной, инициалы собственной жены), Ксения Карловна Карова, похожая на Любовь Яровую, нарисованную ироничным писателем-эмигрантом.
В. Вейдле назвал «Бегство» умной, трезвой и горькой книгой. Характеристика эта по праву может быть распространена на трилогию в целом. Трилогия многими нитями связана с русским романом XIX в. Из него заимствованы отдельные сюжетные мотивы, к нему восходят реминисценции. Внутрилитературность, однако, не свидетельство слабости таланта писателя, а осознанная эстетическая позиция. Размышляя о прогрессе, о нравственности, сталкивая героику и будни, анализируя поведение человека перед лицом смерти, Алданов, по существу, остается в кругу традиционных тем, но главный его мотив подсказан опытом эмигранта: бессилие человека перед историческим потоком, тщетность исторического деяния.
Этот горький мотив контрастирует с внешней легкостью занимательного повествования. Уголовное начало в романе «Ключ», описание политического заговора в «Бегстве» приковывают читательское внимание. Та же роль отведена вставной исторической новелле, восходящей к шиллеровскому «Валленштейну» в «Пещере», но Алданов не достиг здесь органической ее связи с сюжетом романа. Г. Газданов заметил, что подлинный безотрадный смысл алдановских произведений остается недоступным среднему читателю, который следит преимущественно за интригой: «Автор пишет одно, читатель понимает другое».
Работая над трилогией, Алданов одновременно публиковал очерки о событиях и людях революционной эпохи. Эти очерки – «Картины Октябрьской революции», «Взрыв в Леонтьевском переулке», «Убийство Урицкого», «Клемансо», «Ллойд-Джордж» – своеобразная документация, научный аппарат к художественной прозе. Очерк «Вопрос № 66» лег в основу эпизода второй части «Пещеры» (глава XXII). Вставной новелле «Деверу» соответствует очерк «Гороскоп Валленштейна».
До трилогии Алданов имел репутацию крупного исторического прозаика, теперь он был признан и мастером современной темы.
9.
В отличие от "Ключа" и "Бегства" "Пещеру" Алданов писал медленно, на протяжении почти четырех лет, постоянно терзаясь неудовлетворенностью. Отвлекала газета, работа над очерками. В Германии после прихода к власти Гитлера русским эмигрантам стало почти невозможно печататься, а Германия была центром русскоязычного книгоиздательского дела. Закончив "Пещеру", Алданов собирался уйти из литературы. 14 февраля 1935 года он писал Бунину: "Похвалы Ваши (искренне ими тронут, со всеми поправками на Ваше расположение) пришли, так сказать, вовремя: кончена моя деятельность романиста, и Бог с ней".
У Алданова была давняя и высокая репутация очеркиста. Как мастера психологической публицистики, его сравнивают с Герценом, некоторые критики, например, М. Слоним, отдают его очеркам предпочтение перед художественной прозой.
Сам писатель пренебрежительно называл свою работу над очерками литературной поденщиной, но в 20—30-е годы уделял ей много времени. Зарубежные издательства выпускали художественную прозу на русском языке крохотными тиражами, обычно не более тысячи экземпляров, редко две тысячи, и, соответственно, гонорары были мизерными. В. Набоков зарабатывал на жизнь уроками, Г. Газданов работал шофером парижского такси. Алданов ухитрялся сводить концы с концами только на гонорары и еще к тому же занимался благотворительностью, помогал писателям, нуждавшимся еще больше, чем он сам. Средством постоянного заработка стали для него очерки.
Многие очерки Алданова были напечатаны впервые в парижской русскоязычной газете «Последние новости», их перепечатывали затем в переводах газеты различных европейских стран, часть из них, в основном портретные очерки, писатель собрал в сборники «Современники» (1928), «Портреты» (1931), «Земли, люди» (1932), «Юность Павла Строганова и другие характеристики» (1934), «Портреты», т. II (1936).
В конце 40-х годов Алданов хотел часть газетно-журнальных публикаций выпустить в издательстве «ИМКА-Пресс» в виде сборника под названием «Давнее», внес крутую правку в некоторые очерки. Издание не было осуществлено, но авторская правка (по материалам архива Алданова в Российском фонде культуры) использована при подготовке изданий в России252.
Алданов был одним из самых образованных людей в русской литературе, необыкновенная научная рафинированность сквозит в каждой его строке. Многие предшественники Алданова считали возможным отклоняться от фактов, один из первых мастеров русского исторического романа И.И. Лажечников провозглашал: «В историческом романе истина всегда должна уступить поэзии, если та мешает этой». Алданов придерживался противоположного взгляда и даже великим предшественникам не прощал нарушений исторической правды. Писал, например, о несостоятельности концепции знаменитой маленькой трагедии Пушкина: ни Моцарт не был «гулякой праздным», ни Сальери убийцей…
Подчеркнутый интерес к факту скорее органичен для очеркиста, чем для мастера художественной прозы. Когда два свидетельства о событии вступают между собой в противоречие, автор очерка обычно излагает обе версии, романист, за редчайшими исключениями, вынужден принять только одну – и тотчас же он становится объектом нападок ученых. Алданов любил повторять фразу французского профессора Олара: «Нет ничего более почетного для историка, чем сказать: я не знаю».
Романы Алданова эмоциональны, богаты тонко найденными художественными деталями. Дважды, в очерке «Сталин» и в романе «Самоубийство», писатель рисует сцену тифлисской экспроприации 1907 года – чтобы пополнить партийную кассу, большевистские боевики напали на кассиров банка, перевозивших крупную сумму. В романе самая впечатляющая деталь этой сцены придумана автором, это изображение подстреленной террористами лошади, ее глаз перед смертью. В очерке, разумеется, о лошади ни слова, но авантюрный сюжет подводит писателя к важным рассуждениям о нравственности в политике!
В 1920-е и в первой половине 30-х годов Алданов работал над двумя большими эпическими полотнами: тетралогией «Мыслитель» и трилогией «Ключ» – «Бегство» – «Пещера». Параллельно он создавал очерки о людях и событиях тех же лет, бегло упоминаемых или вовсе опущенных в романах. Очерки, таким образом, можно было рассматривать как дополнительный фактический материал для читателя, заинтересовавшегося событиями, обсуждаемыми в романах. В то же время они имеют самостоятельную научную и художественную ценность.
…Романы мадам де Сталь пользовались во Франции на рубеже XVIII – XIX веков грандиозным успехом. Говорили, что пустуют театры и церкви, когда выходят ее новые книги. Эта необыкновенная женщина была влюблена в Наполеона, но он пренебрежительно отверг ее чувство и более того – отправил писательницу в ссылку. Весной 1812 года с юным, вдвое моложе, чем она сама, мужем – гусарским офицером и с новорожденным младенцем 46-летняя мадам де Сталь бежала в Россию. Она не говорила по-русски, но написала о России изумительные страницы: ей удалось подметить в русском народе те черты, которые позднее показала классическая русская литература. Об отношении русского общества к знаменитой француженке писал Пушкин в «Рославлеве».
Поездка мадам де Сталь могла бы под пером другого автора стать сюжетом авантюрного или героического романа. Алданов не написал о ней романа, он ограничился очерком «Коринна в России». В статьях разных лет и в романе «Живи как хочешь», где главный герой – писатель, Алданов раскрыл свое понимание жанра романа: роман – синтетическая форма искусства, полифонический жанр, включающий в себя и драму (диалог), и публицистику, и философию, и поэзию. Писатель предпочитал исторический роман с множеством вымышленных характеров и судеб, в движении которых отражается История.
Иное дело – очерк, с его локальной темой, небольшим объемом, заданной недопустимостью вымысла. Алданов отбирал такие происшествия, которые по напряженности и запутанности интриги не уступали уголовному роману. От очерков – шлейфов к романам он постепенно переходил к самостоятельным небольшим историческим этюдам. Он писал о Пикаре и его роли в знаменитом деле Дрейфуса, об убийстве анархистом французского президента Карно, об австрийском престолонаследнике, совершившем двойное самоубийство со своей возлюбленной. Он исследовал психологическую сторону этих подлинных событий, писал о том, как мотивы благородные и возвышенные всегда переплетаются с низменными и корыстными, как на заднем плане исторического спектакля за фигурами респектабельных государственных мужей возникают их тени – полицейские агенты, авантюристы, заговорщики, убийцы. Изображая события, происходившие в давние времена, в далеких странах, он смотрел на них глазами нашего соотечественника, русского эмигранта.



