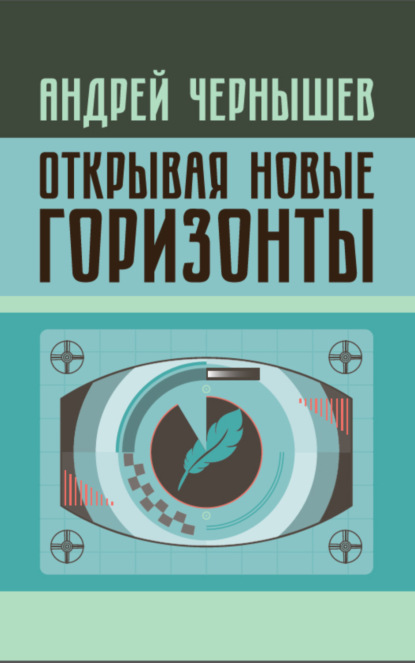 Полная версия
Полная версияОткрывая новые горизонты. Споры у истоков русcкого кино. Жизнь и творчество Марка Алданова
Портрет Алданова работы художника Арнольда Лаховски относится ко второй половине 1920-х годов и был репродуцирован в книге «Современники», вышедшей на немецком языке. Мягкие черты интеллигента, высокий лоб, прямой проницательный взгляд, в глазах грусть. «Эмиграция не бегство и, конечно, не преступление. Эмиграция несчастье». Это пишет Алданов о дюке Ришелье, эмигрировавшем в конце XVIII века из Франции в Россию. Но одновременно не о себе ли самом и своих товарищах по несчастью, русских эмигрантах первой волны, эти грустные слова?
Алданов, как мы знаем, дебютировал в качестве политического публициста в 1918 году в революционном Петрограде книгой «Армагеддон». Эмигрировав, Алданов преимущественно жил во Франции, и одной из главных его тем стали русско-французские отношения, судьбы людей, воплотивших историческое притяжение русской и французской культур. Он писал о Гитлере, когда тот еще не пришел к власти, о Сталине, еще до начала обернувшейся кошмаром коллективизации. Умел провидеть человеконенавистническую сущность диктаторов задолго до того, как она стала очевидной для всех. В одном своем прогнозе Алданов ошибся, но и ошибка его знаменательна. Посмотрев советскую кинохронику, запечатлевшую парад на Красной площади в 1932 году, писатель в очерке нарисовал выразительный групповой портрет советских руководителей на трибуне мавзолея. В глаза бросалось раболепие перед Сталиным впавших в немилость вождей. Он удивлялся: «Достаточно ясно, что Рыкова, Каменева, Зиновьева, Бухарина Сталин не расстреляет, как не расстрелял и Троцкого». К сожалению, все случилось иначе. Всех четверых вскоре прикончили, к Троцкому были подосланы в Мексику убийцы. И все же в широком смысле, в главном Алданов оказался прав. Он верил в человеческий разум, в то, что когда-нибудь «прорвет 160 миллионов людей» и порабощенная страна воспрянет, хотя предупреждал заранее: «От всего этого придется лечиться не годами, а столетиями».
Алданов размышлял об опасности вируса тоталитаризма, предостерегал против «ненависти к парламентаризму и воли к единоличной власти». Порою сегодняшние авторы рисуют Сталина и Гитлера жалкими ничтожествами. Алданов, думается, был ближе к истине: оба они люди выдающиеся, только людям очень сильной воли удается направлять ход исторических событий. Но тем хуже для человечества, что такие, как Гитлер и Сталин, – люди выдающиеся! Пророческими оказались слова очерка о Гитлере: «И не сегодня-завтра он, чего доброго, подожжет мир». (Напомним в скобках, что в 1932 году немецкий издатель Алданова отказался печатать этот очерк.)
Красной нитью через художественную ткань очерков на современную тему проходит тревога писателя за судьбы цивилизации. Он считал, что зло в мире становится всесильным, гуманизм терпит тотальное крушение, надвигается век, когда нравственные ценности окончательно утратят смысл.
Оставалась одна надежда – на «современных Питтов», политических лидеров демократической ориентации, таких, как Клемансо, Бриан, Ллойд Джордж, Черчилль. Их портреты чужды идеализации, идеализация какой бы то ни было исторической личности вообще претила писателю. Он сохранял ироническую интонацию даже когда писал о Ганди. О Ллойд Джордже, например, он счел нужным привести такое суждение современника: «Я предполагаю, что мистер Ллойд Джордж умеет читать. Но, во всяком случае, он этого никогда не делает». У каждого из приверженных парламентаризму политиков, по Алданову, свои человеческие недостатки, свои промахи, прегрешения, свои неуместные амбиции, но все же они заслуживают уважения: перефразируя приведенную в очерке «Коринна в России» цитату, их можно было бы назвать искусными шахматными игроками, играющими партию за человеческий род, взявшимися его защищать. «Я демократ, потому что пока люди не выдумали менее плохой формы общественного устройства», – говорил писатель.
Читатель, несомненно, обратит внимание, что в изображении Алданова люди наполеоновской эпохи и XX века очень схожи, отличаются лишь внешне, а психология, побудительные мотивы поступков те же. «Каков подлец!» – сказал Бонапарт, узнав о доносе Блана, и приказал выдать подлецу сто тысяч франков», – читаем в очерке о генерале Пишегрю. Алданов итожит: «Такова брезгливая философия правителей». Так было, так будет, в мире ничего не меняется, прогресса не существует. Никогда не будет найдено справедливое общественное устройство, будут всегда бороться и мечтать о счастливом завтрашнем дне, а в итоге все останется по-старому, только место лошадей займут реактивные самолеты, а место стрел – атомные бомбы. Писатель не признавал исторического детерминизма. «По случайности, – писал он в очерке о Жозефине Богарне, – эта женщина не взошла на эшафот, по случайности взошла на трон, по случайности с трона сошла». О полковнике Лоуренсе: «Байрон в нем отлично уживался с Майн Ридом. Вероятно, с годами все это прошло бы и он стал бы мирным профессором Оксфордского университета по кафедре средневековой архитектуры. Вышла, однако, неожиданность: мировая война».
Случай выбрасывает на поверхность, разумеется, не самых умных и не самых достойных. И все же у Алданова не было большего интереса, чем к знаменитостям, представителям первого ранга человечества. Он порой искал личного знакомства с ними, любил обсуждать их пути к славе, к успеху. За парадным обликом героя стремился разглядеть простого смертного, проникнуть в его духовный мир. Человека он всегда представлял на фоне исторического потока: один плывет по течению, другой пытается потоку противостоять… В каждом очерке сообщается множество занимательных исторических сведений. На первый взгляд их подбор может показаться случайным, но, присмотревшись внимательнее, нельзя не заметить стройности замысла, органичности конструкции.
Стремление к максимальной емкости каждой строки заставляло писателя отказаться от всего, что замедляет движение сюжета. Его упрекали, что он избегает пейзажей. В ответ в мемуарном очерке «Из воспоминаний секретаря одной делегации» язвительный Алданов припомнил, как Марк Твен составил однажды брошюру с перечнем всевозможных картин природы: летнего утра и зимнего вечера, зеленых полей и тенистых рощ, фиолетовых облаков и розовых закатов. А затем желающих отправлял к этой брошюре: летнее утро – смотри страницу такую-то.
Искусство пользования цитатой доведено у Алданова до совершенства. В очерке о Пилсудском приведен его ответ польским социалистам, которые в 1918 году обратились к нему «товарищ Пилсудский»: «Господа, я вам не «товарищ». Мы когда-то вместе сели в красный трамвай. Но я из него вышел на остановке «Независимость Польши», вы же едете до конца к станции «Социализм». Желаю вам счастливого пути, однако называйте меня, пожалуйста, паном». В старину такие гранаты называли «сладкими»: всего несколько слов – и портрет готов, личность раскрылась.
Превосходный рассказчик, Алданов умел для каждого из жизнеописаний найти оригинальную завязку. Очерк о Клемансо начал с зарисовки удивительной защиты диссертации, когда соискателю было 86 лет, очерк об Адаме Чарторыском – с цитаты из «Войны и мира», которая пробуждает в читателе интерес к личности этого польского аристократа – крупного русского дипломата.
Обычно век очерка недолог, он забывается намного быстрее, чем художественная проза. Но книги очерков Алданова – счастливое исключение. Написанные много десятилетий назад, они нисколько не устарели.
«Биографиям доверять вообще не надо, это самый лживый род литературы», – уверял писатель. Фактическая сторона его очерков отличается высокой достоверностью, а концепция, даже если читатель ее не примет, все равно покажется заслуживающей внимания. «Биографиям доверять вообще не надо…» Этим биографиям можно доверять.
10.
Алданов не осуществил своего плана уйти из литературы, окончив "Пещеру". Новый грандиозный замысел стал его волновать. Он решил, что тетралогия "Мыслитель", повесть "Десятая симфония" и трилогия "Ключ", "Бегство", "Пещера" должны вместе стать частью единой большой серии романов и повестей, охватывающих двести лет истории. Каждая книга в этой серии будет самостоятельна, хотя их свяжут общие действующие лица (или предки и потомки), а кроме того некоторые предметы, переходящие от поколения к поколению. Воплощению этого замысла он посвятил почти всю свою жизнь: к восьми ранее написанным произведениям в последующие двадцать лет добавились еще восемь.
Из них три он написал еще до начала второй мировой войны. Открывает серию самая ранняя по времени действия философская повесть "Пуншевая водка"253, по подзаголовку "сказка о всех пяти земных счастьях": в ней описан 1762 год, воцарение Екатерины II. Споры на вечные нравственные темы ведут Ломоносов, Алексей Орлов, Миних, последний декларирует: "Власть, желающая держаться прочно, должна внушать людям либо любовное уважение, либо сильнейший страх". Повесть Алданов назвал «сказкой», но вкладывал в это слово особый смысл. Характерные признаки сказки, по его определению, «отрывочность, сухость психологического рисунка и подчинение всего основной идее».
Другая философская повесть "Могила воина"254, "сказка о мудрости", рисует Байрона и Александра I. Не вошла в серию, но примыкает к ней повесть "Бельведерский торс"255 – одно из немногих произведений Алданова, где тема России отсутствует. Эту повесть о неудавшемся покушении безумца на жизнь римского папы Пия IV очень высоко ставил писатель Гайто Газданов: ему нравилось, что "фигура официального героя повести обманчиво-центральна" и по мере действия отходит на второй план. "Но зато мы читаем о конце жизни Микеланджело, об искусстве и – как всегда у Алданова – об ужасной тленности существующего"256.
Малый эпический жанр привлекал Алданова на протяжении всего его творческого пути. В 1921 г. писатель начал с повести «Святая Елена, маленький остров», в 1957 г., уже после смерти автора, увидела свет его последняя повесть «Павлинье перо»257. В начале 1930-х годов Алданов делился с И.А. Буниным такими размышлениями: «Романа из эпохи 17-го века я писать не буду, – только потратил время на чтение множества книг: убедился, что почти невозможно проникнуть в психологию людей того времени. Дальше конца 18 в. идти, по-моему, нельзя»258. Однако, как видим, всего через несколько лет Алданов в «Бельведерском торсе» описывает еще более раннюю эпоху – XVI век.
Микеланджело в «Бельведерском торсе», Ломоносов в «Пуншевой водке» страдают одной и той же «высокой болезнью»: ищут и не могут найти совершенства, тяготятся контрастом «неизмеримой обширности всемирного строения» и слабости, тленности человека. Подзаголовок «Пуншевой водки», «сказка о всех пяти земных счастьях», подчеркивает авторскую мысль: каждый ищет и находит для себя счастье по-разному, чем выше и мудрее человек, тем реже он бывает счастлив, но мудрец знает мгновенья счастья, недоступного простым смертным.
Г. Газданов в рецензии на «Бельведерский торс» высказывает общее мнение о прозе писателя: «Небольшая книга Алданова отличается, как все, что пишет Алданов, необыкновенной насыщенностью и тем совершенством изложения, которое сейчас недоступно громадному большинству русских писателейми »259.
В канун второй мировой войны Алданов пишет современный роман "Начало конца"260. Название означало: начало конца передышки между двумя мировыми войнами, а кроме того: начало конца стареющих героев. Все они добились многого в жизни, но теперь уже со стороны смотрят на пройденный путь, обнаруживая, что все, во что верили, к чему стремились, – или не сбылось, отвергнуто историей, или сбылось, но приняло такие уродливые, извращенные формы, что лучше бы не сбылось вообще. Горечь замысла контрастирует с острой уголовной интригой.
Первый том романа вышел в 1938 году. Между тем это произведение стало самым крупным событием в жизни Алданова и американских лет: в январе 1943 г. оно удостоено высокой литературной награды, а сам писатель избран лауреатом Клуба «Книга месяца» (такой же высокой чести был удостоен роман другого писателя-антифашиста, Томаса Манна, «Иосиф и его братья»). Алданов дает многочисленные интервью, его фотографии появляются в газетах, книга в течение года выходит несколькими изданиями, в том числе – массовым в бумажной обложке (paperback), общий ее тираж достиг 320 тысяч экземпляров. За своего друга порадовался В.В. Набоков: «Ваша книга предвещена четверкой аврорных статей в «Бук оф дзи монтс». Не только он, вся русская колония в США восприняла награду как собственный успех. «НАША ВЗЯЛА!» – написал заглавными буквами в поздравительном письме профессор Н. Вакар из Бостона, Массачусетс.
Самый авторитетный в те годы американский специалист по русской литературе Эдмунд Уилсон тоже поздравил Алданова: «Это, вне сомнения, один из лучших социально-политических романов, написанных в последние годы в Европе». В ноябрьском номере «Atlantic Monthly» появилась статья Уилсона, обзор русской литературы от Пушкина и Грибоедова до наших дней. Алданов представлен как наследник классической традиции, ему отведено немалое место.
Публикация романа, начавшись в парижских «Современных записках» с № 62, 1936, продолжалась вплоть до последнего номера (№ 70, 1940), где под очередным отрывком значилось уже ставшее привычным читателям: «продолжение следует». Но продолжения не последовало, Париж пал, журнал был остановлен. Работу над рукописью Алданов заканчивал в США, текст последних глав появился в «Новом Журнале», № 1-3. Одновременно готовился английский перевод, озаглавленный «Пятая печать». Он-то и принес Алданову и деньги, и славу в Америке.
Вызвал жаркие дебаты: зачем в разгар войны автор неодобрительно отзывается о нашем союзнике, о дяде Джо? Коммунистическая газета «Daily Worker» упрекала его в скрытом пособничестве нацистам, а один из членов правления Клуба «Книга месяца» профессор Колумбийского университета Дороти Брюстер в знак протеста против выбора Клуба вышла из жюри. Весьма хладнокровно реагировал на шумиху Набоков: «Шум, поднятый копытцами коммунистов, скорее приятен».
Время действия романа – канун второй мировой войны, эпоха 1937 г. в СССР и Гражданская война в Испании. В воздухе, кажется, разлито предчувствие катастрофы. «Афоризм «после нас хоть потоп» устарел, – говорит один из персонажей. – Мы с вами еще покатаемся по волнам потопа». «Начало конца» мирной передышки между двумя мировыми войнами, первые признаки кризиса коммунистической идеологии.
Предваряя журнальную публикацию романа, Алданов выступил со статьей. Упрекал русскую эмигрантскую литературу в том, что она не касается перемен в советской жизни последнего десятилетия, а между тем со стороны виднее: советским писателям, изображающим сталинскую современность, доверять нельзя. Сам он пришел к выводу: никакого «нового советского человека» в природе не существует, и советская жизнь не так хороша, как ее изображает газета «Правда».
…Среди персонажей, вместе едущих поездом на дипломатическую работу из Москвы в одну из западноевропейских столиц, по-видимому, в Брюссель, крупным планом выделены трое – видные государственные деятели, немолодые люди. Советский посол в молодости был меньшевиком, он очень боится, что давний грех ему припомнят. Командарм, в прошлом генерал царской армии, убеждает себя, что России можно служить при любом режиме, но в Мадриде в момент истины ему откроется: «Торжество зла, и я во всем участвую, дурак на службе у злодеев…» Третий – международный революционер-коминтерновец, соратник Ленина, убежденный, что после Ленина наступила эпоха, лживая насквозь: отправили на тот свет миллионы людей, остальных запугали, партия – «когорта политического преступления». Рисуя с симпатией своих героев из СССР, незаурядных, талантливых, писатель подчеркивает, что их характеры деформированы и иначе не может быть при тоталитарном строе: одно думают, другое говорят. Возникает традиционный для русской литературы вопрос: кто виноват? На заднем плане повествования маячит образ великого «вождя народов».
Очаровательный крохотный эпизод: одна из героинь романа, служащая советского посольства, пишет в свободное от работы время рассказ на модную тему о вредительстве. Она хотела бы закончить свой рассказ не как у всех – разоблачением злодея, а иначе. Перебирает варианты. Ведь не сценой же казни? – так не бывает в произведениях социалистического реализма. Тогда, может быть, сценой раскаяния: «В камере районного прокурора, наверное, был портрет Сталина. Что если, взглянув на это лицо, Карталинский в порыве душевного раскаяния перейдет на сторону советской власти?» Имя «великого вождя» в контексте общепринятой лжи. Второй раз «имя-знамя» возникнет на последней странице романа. Маститому французскому писателю, члену Академии бессмертных, тот же посол предлагает сделку: в Москве издадут его собрание сочинений, заплатят долларами, но с непременным условием, что он должен отправить в адрес Сталина телеграмму в поддержку показательных процессов. И происходит нечто небывалое. Стены королевского дворца, где происходит разговор, в первый раз за столетия своего существования слышат слово не из литературной лексики, а бранное, невозможное «merde!» Имя Сталина в романе Алданова – это имя вдохновителя и организатора массовых убийств.
Очень интересна в романе сюжетная линия, восходящая к «Преступлению и наказанию». Алданову представлялась фальшивой одна из главных идей Достоевского – идея очищения страданием. Почему так бегло и неубедительно в романе дано наказание – каторга, эпилог? Но описать каторгу по-настоящему означало бы наказание тоже изобразить как преступление. Не пришлось бы тогда очищать страданием и каторжное начальство? Алданов переписывает-переиначивает историю Раскольникова, перенеся ее во Францию 1930-х годов, и обнаруживает, что современного юношу-грабителя, замыслившего убийство, совершенно не терзают ни нравственные, ни духовные проблемы, для него лишить другого человека жизни, не оставив улик, – всего лишь интересная техническая задачка, способ самоутвердиться. Арестованный, отданный под суд злодей ни малейшего раскаяния не испытывает и на плаху идет как бы отрешенно – духовный предшественник террористов начала XXI столетия!
Автор-гуманист терзается его судьбой, выступает противником смертной казни. Не находит в себе сил нарисовать картину публичной казни, мерзкую, с его точки зрения, взамен предлагает читателю сухую справку из официального издания: казнь на гильотине осуществляется таким-то образом, последовательность действий палача такая-то…
К роману, опередившему книги Кестлера и Оруэлла, навеянному Достоевским, долго не утихал интерес. В конце 1945 г. Г.П. Струве делился с Алдановым такими наблюдениями: в Англии его совершенно невозможно купить, хотя вышло лондонское издание. Быть может, тираж скупило и уничтожило советское посольство? Прочитав роман в 1951 г., Михаил Чехов пришел в восторг: какой увлекательной могла бы получиться экранизация! Между тем, не только экранизации, но и русскоязычного издания так и не последовало (на Западе издательское дело на русском языке в 40-е годы находилось в полном упадке), и первое полное издание «Начала конца» появилось лишь в 90-е годы в Москве. За полвека книга не утратила остроты, за короткое время она была перепечатана трижды.
11.
Между тем, ко времени, когда разгорелся сыр-бор по поводу избрания «Начала конца» Клубом «Книга месяца», у Алданова уже кипела работа над новым романом, на этот раз историческим, – «Истоки»261, и этому роману, по-английски озаглавленному «Before the Deluge» («Перед потопом»), опять суждено было стать лауреатом. Роман удостоился выбора Книжного общества Великобритании – и опять его не удавалось издать на русском языке, и опять поклонники Алданова повторяли, что это его лучший роман.
Упоминание «…я, вероятно, начну исторический роман» находим в письме Набокову от 31 мая 1942 г., первый отрывок, «В цирке», появился в газете «Новое русское слово» 1 января 1943 г. В замысел писателя входило ироническое уподобление государственных деятелей циркачам. Чтобы достоверно изобразить характеры и обычаи неизвестной ему среды, писатель отправился с бродячим цирком в турне по нескольким штатам. «Алеко Алданов?» – удивлялся, узнав об этом, Бунин. А. Бахрах свидетельствует: «Он знал, что быт и атмосфера этих цирков едва изменяются с годами и широтами. В результате даже в цирковой технике, описанной в романе, и там «комар носа не подточит»262.
Книга была закончена в 1946 году. 1 мая с окончанием романа автора поздравил М.А. Чехов, но, вероятно, в текст еще вносились какие-то изменения, на машинописном тексте последней страницы «Истоков» Алданов поставил чуть более позднюю дату: 5 июня 1946 года.
Почему в переломное время войны Алданов вдруг начал крупное произведение на историческую тему? Обычная его творческая манера – работать сразу над несколькими вещами из разных эпох. «Меня действительно интересуют лишь грандиозные нынешние события», – признавался он Набокову, но ниже в том же письме от 31 мая 1942 года сообщал: новый роман будет из недавнего прошлого (XIX век), и тема его – «откуда это пошло», то есть откуда произошло современное торжество зла, гитлеры, сталины. Алданов считал: это пошло с цареубийства 1 марта 1881 года. Общество тогда разделилось на два непримиримых лагеря, и каждый, уверенный в своей правоте, сделал ставку на насилие. Несомненно, Алданов отталкивался от популярного в предвоенные годы романа генерала-монархиста П.Н. Краснова «Цареубийцы» (1938), где цареубийство представало результатом международного масонского заговора. Алданов отвергал теорию заговоров. Повторял: при Александре II открывалась последняя возможность мирного, более или менее безболезненного развития России, и оно могло стать сказочным, благодаря ее размерам, мощи, богатству, в особенности же – благодаря одаренности русского народа. То, что этого не произошло, «даже не русская трагедия, а мировая».
Эпоха воссоздана с помощью множества характерных реалий. Сеанс показа чуда тогдашней техники – телефона. Знаменитый врач выступает против антисептики при хирургических операциях, он убежден, что это нововведение ненужное, пустое. Дамочка расспрашивает телеграфиста, почему, когда по проводам летят, телеграммы, их не видно? На страницах романа спорят об Островском и Тургеневе, появляется Достоевский.
Эмансипантки, сбор средств на нужды революции. Об Александре II говорят в таких презрительных выражениях, в каких никогда не говорили о его предшественнике Николае I – несмотря на то, что при Александре II отменено крепостное право, произведены крупные реформы. Бытовые детали эпохи выразительны. Например, в университете выглядеть богатым не полагается, и профессора, имеющие бобровые шубы, приходят на лекции в енотовых. Автор рассчитывает на сумму знаний современного читателя, не повторяет общеизвестного, но активизирует память. На одной из первых страниц книги упоминается имя задержанной властями никому из персонажей не известной Софьи Перовской. Читатель же с детства это имя знает и уже готовится к тому, что в развитии действия Перовской будет отведена важная роль.
Описания заговоров и покушений, элемент уголовщины придают роману остроту и занимательность. Эрудиция научного исследования сочетается с остротой приключенческого сюжета. Действующие лица – персонажи исторические и вымышленные, причем первые постепенно теснят вторых. По определению Пушкина, "в наше время под словом роман разумеем историческую эпоху, развитую в вымышленном повествовании". Алданов с его даром публициста умеет увлекательно развить эпоху и в повествовании документальном.
Еще один важный компонент романа – политико-философские диалоги. В русском романе никогда еще политика не становилась объектом такого систематического рассмотрения сквозь призму философских идей. В "Истоках" нет резонеров – комментаторов событий. Политические деятели, представители разных лагерей горячо спорят о путях исторического развития России, о нравственности в политике и о том, допустимо ли прибегать к военной силе, о природе власти и разобщении царской власти и интеллигенции. Каждый из них обрисован не только черной или только розовой краской.
Истоки грозной Октябрьской революции, шире – истоки свойственной всему XX столетию жестокой нетерпимости, по Алданову, в 1870-х годах, когда общество разделилось на два непримиримых лагеря, и каждый, совершенно убежденный в своей монополии на истину, стал делать ставку на насилие. Контрапунктом романа является необыкновенно ярко написанная сцена убийства Александра II народовольцами, эта сцена одна из лучших в русской исторической прозе.
Можно спорить с писателем, были ли именно 1870-е годы главной исторической вехой на пути к революции, или истоки ее надо искать раньше, в пору декабристских тайных обществ или в эпоху Радищева. Георгий Иванов в парижском журнале "Возрождение" предъявил Алданову еще один упрек: воздав должное "увлекательной и блестящей" книге "Истоки", он возражал против того, что в ней с симпатией изображены революционеры, и брал под защиту царей. Но, по Алданову, любая политическая деятельность подобна цирку, тройному сальто-мортале, и принципиальной разницы между деятелями двух противостоящих лагерей не может быть. Коли отрицается поступательное движение истории, логично отрицать любую политическую позицию.



