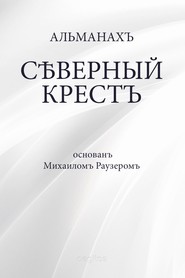 Полная версия
Полная версияСеверный крест
Извѣстенъ и ученикъ его Птолемей, глава италійской школы валентиніанства, ученіе котораго содержитъ въ себѣ чисто ортодоксальныя построенія (среди прочаго – не-отрицательное отношеніе къ Ветхому Завѣту и его богу – Деміургу, который по Птолемею «ни добрый, ни злой, ни несправедливый, а правосудный, какъ присуждающій воздаяніе по присущей ему правдѣ», ненавидящій зло[111]. Наиболѣе извѣстно его посланіе къ Флорѣ, высоко цѣнимое Ренаномъ.
Другимъ ученикомъ Валентина былъ Гераклеонъ, также въ той или иной мѣрѣ болѣе близкій историческому христіанству, чѣмъ иные гностическіе учители; занимался онъ въ основномъ этическими вопросами. Инымъ ученикомъ Валентина былъ Маркъ, прославившійся своими чудесами; ученіе его малоотлично отъ ученія самого Валентина, онъ развѣ что въ еще большей мѣрѣ вноситъ въ него пифагорейство съ его мистицизмомъ и вниманіемъ къ цифрамъ и буквамъ съ символическимъ ихъ толкованіемъ.
Въ цѣломъ въ идейномъ смыслѣ гностицизмъ доходитъ до своего пика во второмъ столѣтіи; III вѣкъ въ этомъ отношеніи далъ мало: развитіе его прекращается по ряду причинъ и зачинается упадокъ его; ортодоксальные изслѣдователи (напримѣръ, Посновъ и предшественники его) связываютъ это съ кризисомъ самого гностицизма, съ угасаніемъ его, что-де имѣло причину въ себѣ самомъ (въ частности, отмѣчается, что съ иныхъ поръ болѣе не появлялось великихъ гностическихъ учителей, а были лишь эпигоны и комментаторы уже созданнаго; короче, что твореніе новаго замѣняется на втореніе уже имѣющемуся), въ самомъ гностицизмѣ какъ ученіи, которое-де само израсходовало свои потенціи, и замалчиваютъ иныя, болѣе вѣсомыя причины: яростную борьбу ортодоксіи съ гностицизмомъ; нѣкимъ чудеснымъ образомъ не замѣчаютъ, что гностицизмъ перестаетъ развиваться съ конца II столѣтія и именно къ концу II столѣтія въ цѣломъ окончена идейная борьба ортодоксіи съ гностицизмомъ; вмѣсто сего такого рода изслѣдователями отмѣчается «саморазложеніе» гностицизма (Фолькмаръ).
Слѣдуетъ отмѣтить, что еще до времени проповѣди послѣднихъ великихъ гностическихъ учителей ортодоксія дѣлала всё, чтобы стереть съ лица земли гностицизмъ, пиша противъ него вплоть до середины перваго тысячелѣтія. Это удалось: какъ сколько-то широкое явленіе гностицизмъ въ полной мѣрѣ пересталъ существовать ближе къ серединѣ I тыс., будучи побѣжденъ идеологически еще къ концу II столѣтія; но какъ малая традиція онъ существовалъ непрерывно – въ подпольѣ и въ тѣни – и существуетъ доднесь (рѣчь въ первую очередь о манихействѣ и мандеизмѣ; также напомнимъ читателю о богомильской и катарской «ереси», пусть и окончившей свое существованіе какъ широкое явленіе, но существовавшей длительное время; впрочемъ, въ своей исторической области катары и понынѣ есть). Пожалуй, главными причинами враждебнаго, дѣйствующаго какъ инстинктъ непріятія гностицизма поверхъ прочихъ, второ- и третьестепенныхъ причинъ слѣдуетъ, на мой взглядъ, искать въ отношеніи людского рода, «малыхъ сихъ», къ радикально безмiрному, безкомпромиссно неотмiрному, да еще и называющему бѣлое бѣлымъ, а черное чернымъ: слѣпцы, держимые за поводокъ однимъ Слѣпцомъ, ненавидятъ прозрѣвшихъ, а лицемѣры (родившіеся лицемѣрами, впитавшіе лицемѣрье съ молокомъ матери, бытующіе до смерти въ лицемѣріи, ибо держимы страхомъ и слѣпотою) – говорящихъ правду. Гностикъ – Чацкій, а всѣ остальные – фамусовское общество. Гностикъ – Чаадаевъ, а всѣ остальные – «дорогіе россіяне», не могущіе – изъ вѣка въ вѣкъ, по кругу – противопоставить ничего ни Чацкому, ни Чаадаеву, кромѣ объявленія обоихъ «сумасшедшими»; гносисъ – раскаленная правда, молнійно бьющая по теплымъ, по малымъ симъ, которые обидою принуждены отстрѣливаться клеветою либо молчаньемъ; но нѣтъ ничего глупѣе, какъ кидаться пепломъ въ огнь. Относительно гностическаго духа объединится и католикъ съ православнымъ, того болѣе – любой историческій христіанинъ съ мусульманиномъ: міръ чуетъ грозящую опасность для себя и не желаетъ ограничивать себя въ средствахъ борьбы съ угрозою для покойнаго своего существованья: таковъ міръ и законы его. Въ нёмъ отъ вѣка царствуетъ низость; идея и идеалъ здѣсь вырождаются въ дурную идеалистичность, а чаще въ идеологію; не идея здѣсь главенствуетъ, но искаженіе идеи.
Исторически гностицизмъ былъ преслѣдуемъ сперва въ первые вѣка I тыс., а затѣмъ – съ разницей безъ малаго въ тысячу лѣтъ – уже въ первые вѣка тысячелѣтія второго, и второй случай можетъ служить иллюстраціей для реконструкціи покрытаго бѣлыми пятнами перваго. «Ересь» явила себя и въ Тамплѣ, католическомъ въ первую очередь внѣшне. Гностицизмъ пустилъ вѣтвь и въ исламѣ: въ суфизмѣ и сектѣ исмаилитовъ; и въ іудаизмѣ: въ каббалѣ. Не менѣе ярко гносисъ явилъ себя въ германскомъ мистицизмѣ – начиная отъ Экхарта и Беме; далѣе гносисъ являетъ себя у Вольтера и болѣе явно въ Гете – въ Германіи; въ Блейкѣ – въ Англіи; въ Россіи – въ словѣ Вл. Соловьева, невѣроятно высоко (выше всей новоевропейской философіи) цѣнившаго Валентина и писавшаго не только о Софіи, съ коей онъ имѣлъ бесѣды, но и, быть можетъ, ея десницею; такъ или иначе онъ являлъ себя въ русскомъ Серебряномъ вѣкѣ (но русскій гносисъ, впрочемъ, былъ лишенъ акосмизма и былъ, напротивъ, въ цѣломъ крайне космиченъ); позднѣе онъ проявился въ теософіи. Въ XX столѣтіи гностицизмъ переживаетъ свой расцвѣтъ и выходитъ изъ тѣни (теософія, антропософія Р.Штейнера, въ меньшей степени русскій Серебряный вѣкъ, К.Юнгъ, Г.Гессе, А.Кроули и пр.). Съ конца XIX вѣка существуетъ гностическая церковь, возрожденная во Франціи – странѣ съ давними гностическими корнями (задолго до катаровъ тамъ обитали многіе гностики со всѣхъ концовъ свѣта, на которыхъ жаловался Ириней Ліонскій).
* * *Подведемъ итоги нашего разсмотрѣнія гностицизма какъ мірового явленія. Общимъ для всѣхъ или почти всѣхъ гностиковъ является: дуализмъ, большій или меньшій акосмизмъ, докетизмъ относительно Христа, невѣріе въ тѣлесное его воскресеніе и отрицаніе онаго, отрицательное отношеніе къ Ветхому Завѣту и духу Яхве, разумѣемаго злымъ деміургомъ, равно какъ и къ матеріи, разумѣемой зломъ, трехчастное дѣленіе человѣка, или трихотомія (духъ – душа – тѣло, чему соотвѣтствуютъ слѣдующіе типы – пневматикъ (какъ тотъ, кто обладаетъ и обладаемъ духомъ) – психикъ – гиликъ); иное отношеніе къ женщинѣ, значимость женскаго начала (именно милостью Евы Адамъ пробуждается ото сна и обрѣтаетъ знаніе, гносисъ). Христосъ какъ идеальный пневматикъ не могъ имѣть ту же плоть, что и смертные: отсюда докетизмъ; плоть его есть лишь видимость плоти. Лежащій во злѣ и попросту убожествѣ міръ никакъ не долженъ быть связанъ съ Отцомъ и міромъ плеромы: отсюда ученіе о злой матеріи, матери всего зримаго, и деміургѣ – какъ ея создателѣ, неосознанно смѣшавшемъ верхнія и нижнія сферы; при томъ въ цѣломъ западные гностики вполнѣ въ духѣ античной философіи понимали матерію какъ нѣчто отвлеченное, призрачное, косное и пассивное, а гностики восточные – какъ живое злое существо. Люди же, имѣя въ себѣ искру тамошнюю, не могли не стремиться слиться съ тамошнимъ: нуждались въ спасеніи и спасителѣ. Высшія существа не могли мириться съ такимъ положеніемъ дѣлъ, согласно которому искра страждетъ въ лабиринтахъ зла и тьмѣ матеріи, а тяга къ горнему и тоска по нему ничѣмъ не утоляется. Потому нисходитъ одинъ изъ высшихъ эоновъ – Христосъ; въ нисхожденіи своемъ онъ принимаетъ кажущееся тѣло и соединяется съ человѣкомъ Іисусомъ, оставляя его при крестныхъ его мукахъ. Христосъ сообщаетъ избраннымъ о стезяхъ подлинныхъ, о путяхъ неложныхъ и обо всѣхъ тайнахъ; онъ учитъ ихъ гносису: сокровенному знанію. Гностики считали человѣка микрокосмомъ, состоящимъ изъ трехъ частей: духа, души и тѣла; въ соотвѣтствіи съ члененіемъ этимъ дѣлили людей на три типа, сообразно тому, что въ человѣкѣ преобладаетъ и задаетъ тонъ въ бытіи: на пневматиковъ, людей духа, психиковъ, у которыхъ горнее смѣшивалось съ дольнимъ, духъ съ плотью, и гиликовъ («иликовъ» въ болѣе новомъ произношеніи), людей плоти и матеріи, коимъ вовѣкъ не спастись. Вопросъ о спасеніи отъ узъ матеріи и плоти рѣшался двояко: одни пѣстовали строгій аскетизмъ (Саторнилъ, Маркіонъ); иные – въ духѣ либертинизма (николаиты и офиты, Карпократъ и послѣдователи его), побѣждая плотью плоть, чувственностью чувственность, не борясь съ плотью, но её презирая. Однако добавимъ насчетъ второго: у современныхъ изслѣдователей гностицизма (напримѣръ, Дж. Мид и позднѣе Ст. Хеллеръ и пр.) большія сомнѣнія насчетъ не только практическаго, но и теоретическаго либертинизма: Ириней и иные отцы наговариваютъ на Карпократа и пр. гностиковъ въ цѣляхъ ихъ дискредитаціи. Итакъ, появленіе гносиса какъ явленія – II–I вв. до Р.Х., христіанскаго гносиса – I вѣкъ, расцвѣтъ его – II вѣкъ, далѣе стремительный упадокъ, съ III–IV вв. гносисъ существуетъ какъ малая традиція. Многое въ исторіи гностицизма безвозвратно утеряно, смыто водами Леты, но то, что гносисъ распространялся съ Востока на западъ, есть фактъ. Также фактъ, что въ гностицизмѣ преобладаетъ не западный, но восточный духъ. – Гностицизмъ послѣ того какъ пересталъ былъ широкимъ явленіемъ, оставался явленіемъ глубокимъ, ставъ «малой традиціей»; такъ или иначе онъ всплывалъ въ европейскомъ культурномъ пространствѣ многажды въ томъ или иномъ видѣ: помимо многочисленныхъ ересей, представляющихъ собою искаженное исконно-гностическое ученіе (они – гносисъ, ибо обрѣтены милостью гносиса и сами суть гносисъ, но не гностицизмъ исконный; они – гносисъ, который есть отголосокъ и тѣнь гностицизма), онъ такъ или иначе просачивался и черезъ философію (хотя бы и – снова – въ искаженномъ видѣ и въ той или иной степени): сложно не увидѣть гностическое измѣреніе у Беме, вообще у нѣмецкихъ мистиковъ, у Вольтера, Гете (рѣчь идетъ о его «Фаустѣ»), Толстого, Блейка, Йейтсъ, Гессе, Юнга; напомнимъ, зримые ростки гностическаго ученія были и въ русской мысли Серебрянаго вѣка; трудно не увидѣть гностическое измѣреніе и въ экзистенціализмѣ.
* * *Первая критская поэма на дѣлѣ – первое вполнѣ гностическое произведеніе (гдѣ гностическое – не розсыпь среди прочаго, но полноцѣнно, полновѣсно, цѣлостно явленное[112]) за всё время, гдѣ темы Мережковскаго не только затрагиваются, но на нихъ – языкомъ Бѣлаго (кажется, впервые послѣ Бѣлаго) – мало того что вообще даются отвѣты, такъ и еще и отвѣты сіи – иные и часто съ противоположнымъ знакомъ (относительно Мережковскаго). Я бы сказалъ, что сторонюсь не отдѣльныхъ авторовъ рус. литературы, не того, что она русская, а вообще литературы какъ таковой, ея законовъ, правилъ, нормъ, etc. Это видно уже по самой моей тематикѣ и жанровой своеобразности, по тому простому факту, что всё слово мое никогда въ «литературу» не умѣщалось (недавно почившій профессоръ, литературовѣдъ Б.Аверинъ, конечно, поспѣшилъ объявлять одно мое твореніе «литературою»); здѣсь – въ отличіе отъ вышеупомянутаго мною моего творенія – «Послѣдняго Кризиса» – не можетъ быть и рѣчи объ идейномъ синтезѣ того или иного рода: «Здѣсь тезисъ, что не желаетъ терпѣть рядомъ съ собою тотъ или иной антитезисъ» (по мѣткому слову Ильи Поклонскаго), здѣсь – натянутая и звенящая тетива, стрѣла, готовая вырваться въ самое сердце Зла.
Какъ и иныя мои произведенія, критская поэма стоитъ особнякомъ. Въ сущности, я ставилъ передъ собою цѣлью: въ своемъ творчествѣ воплотить такой уровень, достичь такихъ высотъ и глубинъ, о которыхъ ранѣе могли только догадываться, явить въ словѣ доселѣ небывшее. Нѣкогда мнѣ представлялось именно въ этомъ смыслѣ: я бы предпочелъ считаться неумехою въ глазахъ типичнаго литературовѣда – исчисляющаго успѣхъ книги не то соотвѣтствіемъ канонамъ и моднымъ трендамъ, не то тиражомъ и наличіемъ переводовъ на иные языки, не то авторитетностью самого автора, его славой, не то литературнымъ его мастерствомъ, точностью и новизною метафоръ, не то самобытностью, etc. – лишь бы не стоять съ кѣмъ-либо вмѣстѣ (навѣрное, этимъ могли бы объясняться иныя странности иныхъ моихъ твореній) или съ кѣмъ-то быть рядомъ въ рамкахъ той или иной традиціи, жанра, эпохи.
Несмотря на попытки комментаторовъ выдать бѣлое за синее, а черное за красное (такъ, напримѣръ, гностическое видится (ищется) у Достоевскаго, который, какъ и иные геніи, съ новаго угла – гностическаго – обезпечиваетъ, по мѣтко брошенному однажды слову К.Свасьяна, кандидатскія и докторскія степени), цѣльно-гностическихъ произведеній изящной словесности въ прозѣ нѣтъ и не было. Циклъ поэмъ «Ex oriente lux» – первое явленіе гностицизма (не просто гносиса) въ изящной словесности. Я создалъ первое и, боюсь, послѣднее гностическое произведеніе въ рамкахъ элитарной, а вѣрнѣе классической словесности. До этого гностическое являло себя довольно рѣдко и больше въ качествѣ экзотической приправы.
Для доказательства даннаго тезиса кратко разсмотримъ словесность Серебрянаго вѣка (ранѣе гностицизмъ едва ли себя являлъ, хотя у В.Соловьева есть порою гностическое измѣреніе), но сперва обратимся къ фигурѣ Ницше, ощутимо повліявшаго на Серебряный вѣкъ. Именно онъ былъ отправной точкой и катализаторомъ культурныхъ процессовъ: творцы Серебрянаго вѣка производятъ своего рода «переоцѣнку всѣхъ цѣнностей» и отмежевываются отъ предыдущей (въ первую очередь – христіанской) традиціи; христіанскій Богъ либо умаляется, либо отрицается, а діаволъ, напротивъ, возвышается, либо и вовсе прославляется. Но Ницше былъ понятъ какъ угодно, но не такъ какъ должно. Всякъ притягивалъ его къ себѣ сообразно своему міровоззрѣнію и своимъ желаніямъ и нуждамъ. Того требовала мода на Ницше. – Ницшеанцы: вмѣсто послѣдователей великаго нѣмца, идущихъ своими стезями, понявши вѣрно духъ его, а послѣ растворивъ его въ личной судьбѣ, что не исключало бы и борьбу съ Ницше. Ницшеанцы: вмѣсто – на худой конецъ – знатоковъ Ницше. На свой ладъ сказанное затронуло и такихъ фигуръ Серебрянаго вѣка, какъ А.Бѣлый, видѣвшій въ Ницше символиста, Мережковскій, А.Блокъ, В.Ивановъ, М.Горькій… Складывается ощущеніе, что помимо «Такъ говорилъ Заратустра» и «Рожденія трагедіи…» они ничего болѣе у него не читали; отсюда ложно понятый Ницше. Первымъ «не понялъ» Ницше, конечно же, В.Соловьевъ, чья реакція на германскаго мыслителя была православна до слезъ. Для насъ важно, что «люциферианский дух Ницше почему-то оказался отождествленным с подлинным люциферизмом: Заратустра являлся Мережковскому в образе Антихриста»[113]. Именно поэтому невѣрно понятый Ницше «виновенъ» въ демонизмѣ Серебрянаго вѣка. Какъ я писалъ въ еще не изданной статьѣ «Rationes triplices I»: «Серебряный вѣкъ былъ вѣкомъ синтеза; потому удивляться синтетическимъ (а порою и эклектическимъ) вбираніямъ въ свое міровоззрѣніе мировоззреній чуждыхъ и разнородныхъ не приходится». На русской почвѣ ницшеанскій сверхчеловѣкъ смыкался съ избраннымъ, посвященнымъ, пневматикомъ; его разрушительное люциферическое начало – съ…анархизмомъ; богоборческія его настроенія выливались – поверхъ богоборческихъ настроеній – въ…богоискательство и исканіе новыхъ стезей внутри христіанства, которое тѣ или иные творцы вѣка Серебрянаго желали реформировать и возогнать, отмежевавшись отъ христіанства историческаго, въ христіанство подлинное; Ницше казался имъ помощникомъ въ этомъ дѣлѣ. Ницше произвелъ «переоцѣнку всѣхъ цѣнностей»; русскіе творцы – тоже: и каждый на свой ладъ. Ницше съ надеждою глядѣлъ въ грядущее; они это грядущее созидали: такъ имъ казалось. Помимо моды на Ницше вліяла и мода на Шопенгауэра съ его мироотречностью, представленіемъ о мірѣ какъ о созданіи злой воли и о жизни какъ о злѣ. Именно оба названныхъ мыслителя, понятые сообразно духу эпохи, открыли дорогу…вѣяніямъ гностицизма (помимо того факта, что русская почва и безъ того – самая гностическая (но со знакомъ минусъ) почва въ силу цѣлаго ряда причинъ).
Хотя гностическое такъ или иначе разлито, напримѣръ, по Серебряному вѣку, гностицизмъ былъ для творцовъ его мало того что перчинкою и остринкою, а не подлиннымъ гностическимъ ученіемъ, но также въ цѣломъ отличался вопіющимъ недостаткомъ акосмизма.
Въ русской словесности оно впервые себя являетъ у К.К.Случевскаго въ поэмѣ «Элоа», произведеніи въ большой степени недооцѣненномъ; но гностицизмъ тамъ перемѣшанъ съ историческимъ христіанствомъ и Авестой: «Элоа» – помѣсь двухъ и болѣе традицій[114]. Впервые въ русской словесности былъ явленъ дуализмъ: зло представало столь же мощнымъ, что и добро: «И Богъ, и я», – говоритъ въ поэмѣ Сатана, -
Мы два враждебныхъ брата,Предвѣчные эоны высшей силы,Намъ неизвѣстной, дѣтища ея[115]!..Болѣе того: діавола въ нѣкоторомъ согласіи съ гностицизмомъ Случевскій разумѣлъ за силу, способную успѣшно бороться со зломъ: матеріей. Брюсовъ охарактеризовалъ «Элоа» как «вещь удивительную и дерзновенную»[116]. Поэма, въ которой гностицизмъ никогда не являлъ себя въ чистомъ видѣ, но сочетался съ иными традиціями, заложила фундаментъ послѣдующей русской словесности Серебрянаго вѣка, что отмѣчалось иными изслѣдователями: она была «авторитетнымъ примѣромъ, на который они могли опереться», по словамъ А.Федорова («Поэтическое творчество К. К. Случевскаго»).
Особенно ярко половинчатость, синкретичность и эклектичность выражена въ игрѣ противоположностями и попыткахъ соединенія несоединимаго у Мережковскаго: въ произведеніяхъ его – пестрый калейдоскопъ различныхъ и несходныхъ ученій, герои его – часто, слишкомъ часто – суть помѣсь историческаго христіанства, неисторическаго христіанства, гностицизма, восточныхъ ученій, различныхъ ересей, платонизма и неоплатонизма, ницшеанства и пр. Въ его случаѣ – это, скорѣе, авторскій пріемъ, а не недостатокъ, ибо самъ авторъ писалъ:
Ты самъ – свой Богъ, ты самъ свой ближній,О, будь же собственнымъ Творцомъ,Будь бездной верхней, бездной нижней,Своимъ началомъ и концомъ[117].Діавола Мережковскій разумѣлъ слѣдующимъ образомъ: если въ самомъ началѣ творчества – временъ первой трилогіи – онъ былъ для Мережковскаго равной Богу силою, отвѣчающей за плотское (а Богъ за духовное), а самое бытіе – и человѣческое, и общеміровое – было ареною борьбы между свѣтомъ и тьмою, когда побѣждало то одно, то другое, то послѣ мы читаемъ: «Богъ есть безконечное, конецъ и начало сущаго; чортъ – <…> отрицаніе всякаго конца и начала <…> Чортъ – ноуменальная середина сущаго, отрицаніе всѣхъ глубинъ и вершинъ – вѣчная плоскость, вѣчная пошлость», поскольку онъ есть <…> начатое и неоконченное, которое выдаетъ себя за безначальное и безконечное <…> Главная сила діавола – умѣніе казаться не тѣмъ, что онъ есть. Будучи серединою, онъ кажется однимъ изъ двухъ концовъ – безконечностей міра, то Сыномъ-Плотью, возставшимъ на Отца и Духа, то Отцомъ и Духомъ, возставшимъ на Сына-Плоть; будучи тварью, онъ кажется творцомъ; будучи темнымъ, кажется Денницею»[118]. Діаволъ принижается, здѣсь онъ являетъ себя вполнѣ на средневѣковый христіанскій ладъ – «обезьяна Бога», мастеръ по части масокъ. Монизмъ вмѣсто гностическаго дуализма, не неохристіанство, а новое толкованіе стараго, и въ толкованіи этомъ стараго больше, чѣмъ новаго. Гностическое перемѣшано съ христіанскимъ, а послѣднее съ язычествомъ и, скажемъ, съ неоплатонизмомъ: авторъ зачарованъ то однимъ, то инымъ ученіемъ, колеблется принять одно изъ нихъ, – совсѣмъ какъ Розановъ на тротуарѣ предъ конницей: млѣетъ.
Менѣе половинчатый характеръ (ибо явленъ у него несомнѣнный дуализмъ: добро связано съ духомъ и мистикою, а зло съ матеріею, плотью и раціонализмомъ) – въ творчествѣ Брюсова, на котораго, безъ сомнѣній, оказывалъ вліяніе Мережковскій, но съ неохристіанствомъ и монизмомъ котораго онъ боролся; но Ницше повліялъ въ мѣрѣ большей. Брюсовъ – большой мастеръ по части масокъ (какъ и самый Сатана): часто, слишкомъ часто казалось бы не ясно: что для него выше, что истиннѣе – Богъ или діаволъ? И какимъ слѣдуетъ идти путемъ? На этотъ вопросъ отвѣчаетъ самъ Брюсовъ: «<…> Знаю я и иную правду <…> Истинно и то, и это. Истинъ много и часто онѣ противорѣчатъ другъ другу. Это надо принять и понять. Да я и всегда объ этомъ думалъ. Ибо мнѣ было смѣшнымъ наше стремленіе къ единству силъ или началъ или истины. Моей мечтой всегда былъ пантеонъ, храмъ всѣхъ боговъ. Будемъ молиться и дню и ночи, и Митрѣ и Адонису, Христу и Дьяволу. „Я“ это – такое средоточіе, гдѣ всѣ различія гаснутъ, всѣ предѣлы примиряются» (Брюсовъ. Дневникъ). Или – въ брюсовскомъ стихотвореніи «Я»:
Мой духъ не изнемогъ во мглѣ противорѣчій,Не обезсилѣлъ умъ въ сцѣпленьяхъ роковыхъ.Я всѣ мечты люблю, мнѣ дороги всѣ рѣчи,И всѣмъ богамъ я посвящаю стихъ.<…>И странно полюбилъ я мглу противорѣчійИ жадно сталъ искать сплетеній роковыхъ.Мнѣ сладки всѣ мечты, мнѣ дороги всѣ рѣчи,И всѣмъ богамъ я посвящаю стихъ…Брюсовъ, хотя и (абсолютный) дуалистъ, вовсе не гностикъ: онъ за уравненіе истинъ, Бога и Дьявола: онъ «плюралистъ», ибо истина для него не одна, а «истинъ много», и истины этѣ равновелики, равнозначны, и нѣтъ здѣсь и скепсиса по отношенію къ той или иной истинѣ:
Неколебимой истинѣНе вѣрю я давно,И всѣ моря, всѣ пристаниЛюблю, люблю равно<…>Хочу, чтобъ всюду плавалаСвободная ладья,И Господа и ДьяволаХочу прославить я[119].Онъ – и люциферіанецъ (какъ Ницше), и люциферіанинъ (ибо – самое малое отчасти – сатанистъ). Таковъ и Бальмонтъ, объявившій – въ позѣ художника – войну христіанскому Богу: во имя дольняго міра, его красокъ и роскошества. Оба (абсолютные) дуалисты, но дуализмъ дуализму – рознь: одно дѣло – признавать нетварность и мощь Сатаны (и, скажемъ, быть при томъ по ту сторону баррикадъ), иное – быть сатанистомъ. Бальмонтъ, порою обличая и проклиная Бога (ибо Онъ, по Бальмонту, виновенъ за всё то зло, что разлито въ мірѣ), всё же не видитъ «добра» и блага и въ діаволѣ: діаволъ и зло надобны: какъ тѣнь отъ свѣта, какъ то, что даруетъ объемъ, какъ то, на фонѣ чего свѣтъ есть свѣтъ. Но и Богъ и діаволъ – злы (каждый на свой ладъ и по своимъ причинамъ). Казалось бы, и Брюсовъ, и Бальмонтъ почти гностики, но слишкомъ ужъ зачарованы природою и вообще здѣшнимъ (особливо послѣдній).
Въ еще большей мѣрѣ сатанистъ (люциферіанинъ) Ф.Сологубъ, «поэтъ Зла и Дьявола», воспѣвающій зло и смерть, пожалуй, если не единственный (акосмическимъ духомъ пропитаны многія творенія Блока), то главный акосмистъ Серебрянаго вѣка (но не сказать, что онъ въ полной мѣрѣ гностикъ, потому что съ гностицизмомъ въ его міровоззрѣніи сосѣдствуетъ многое, слишкомъ многое). Здѣсь уже перевертышъ: Богъ (творецъ міра сего) есть зло, а діаволъ, змій – добро и благо (здѣсь всё въ согласіи если не со всѣмъ гностицизмомъ, то съ офитской его частью); смерть, которая является зломъ для почти любого живого существа, – понимается какъ обладающая несравненною силою избавительница: отъ зла жизни, «бабищи румяной и дебелой»; наконецъ, Солнце, воспѣваемое всѣмъ сущимъ, предстаетъ зломъ: Змѣемъ (что далеко, какъ мы знаемъ, отъ гностицизма первыхъ вѣковъ, но, однако, близко, къ ученію катаровъ); впрочемъ, въ стихотвореніи «Я часть загадки разгадалъ…» воспѣвается въ полномъ согласіи съ офитскомъ ученіемъ Змѣй, искуситель Евы въ раю. Итакъ: діаволъ сильнѣе творца, смерть сильнѣе жизни, ночь блаженнѣе дня…
Вмѣстѣ съ тѣмъ въ иныхъ стихахъ – какъ исключеніе – воспѣвается Христосъ, его воскресеніе, крестныя его муки: проклятія Богу, четкое осознаніе его зломъ сосѣдствуютъ съ … молитвою къ Нему и даже желаньемъ идти стезями Распятаго, повторить крестную его жертву. Но по всей видимости, здѣсь противорѣчіе здѣсь мнимое и кажемое: Сологубъ и здѣсь въ полной мѣрѣ въ согласіи съ гностицизмомъ – Богъ Ветхаго Завѣта противополагается Христу.
Сологубъ – едва ли не самый гностически мыслящій и чувствующій нашъ писатель, который не вплетаетъ гносисъ въ свое творчество, используя его лишь какъ спецію, но безпримѣсный гносисъ (отъ гностицизма первыхъ вѣковъ всѣхъ направленій до «ересей» манихеевъ, катаровъ, богомиловъ) очень часто являетъ себя его творчествомъ, а гдѣ онъ не безпримѣсенъ, тамъ являетъ себя переосмысленіе поэтомъ гностическихъ мотивовъ (но не на мятущійся, идейно-суетливый, какъ слѣдствіе, потерянный и безсильный ладъ Мережковскаго), сосѣдствующихъ, однако, съ чистымъ сатанизмомъ и философіей пессимизма.
«Младшіе» символисты по части гностицизма не пошли за «старшими»: ихъ увлекъ В.Соловьевъ. Исключеніемъ сталъ лидеръ акмеизма Н.Гумилевъ, который именуется С.Слободнюкомъ «антисимволистомъ». Интересно люциферизмъ преломляется въ творчествѣ его: діаволъ уже отвѣтственъ за познаніе, онъ, по мѣткому слову С.Слободнюка, «влыдыка гнозиса», болѣе того «единственный обладатель» его; здѣсь уже нѣтъ равенства добра и зла, Бога и дьявола, двухъ истинъ Мережковскаго и Брюсова, потому рѣчь идетъ о «теодицеѣ наоборотъ»; дьяволъ надѣляется способностью къ творчеству, онъ – творецъ, созидатель; онъ не только разрушаетъ, но и зачинаетъ, и возрождаетъ. Словомъ, онъ единственный подлинный Богъ. Гумилевъ, извѣчный фрондеръ, созидаетъ новый образъ: «дьяволобога»; и образъ сей есть образъ синтетическій, вмѣщающій въ себя и Христа, и Антихриста въ нераздѣльномъ сліянномъ синтезѣ. Образъ этотъ въ высшей мѣрѣ мужественъ, ибо созданъ въ противовѣсъ «Вѣчной Женственности» символистовъ. Онъ являетъ себя, напримѣръ, въ «Открытіи Америки» фигурою Колумба или въ «стихотвореніи «Леонардъ» – героями, что при всей своей мощи скорѣе ужъ терпятъ фіаско, нежели побѣждаютъ, вѣдь дѣйствуютъ они въ мірѣ, коимъ правитъ иное, чуждое и враждебное имъ: злой христіанскій Богъ. Здѣсь явленный главными героями духъ Люцифера надѣляется такими – поверхъ прочихъ – атрибутами Бога, какъ мудрость, знаніе, стремленіе водворить порядокъ и благо, а не – забавляясь – творить хаосъ и злодѣйства; самъ же Люциферъ по мысли поэта пріидетъ послѣ, ему уготована побѣда и власть надъ всею землей, а пока въ мірѣ явленъ лишь «дьяволобогъ». Въ своихъ драматическихъ произведеніяхъ, какъ доказываетъ С.Слободнюкъ, «поэт создал мир, в котором отрицается существование добра, поскольку оно есть лишь проявление «силы» верховного («злого») существа»[120]. Но вмѣсто гностическихъ вѣяній у «старшихъ» символистовъ Гумилевъ используетъ враждебный гностицизму неоплатонизмъ.



