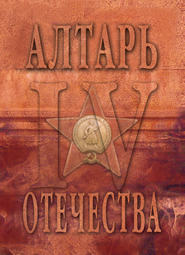 Полная версия
Полная версияАлтарь Отечества. Альманах. Том 4
С боями и контратаками пятого октября мы вышли к Ирбенскому проливу. Нас осталось одиннадцать человек, вооружённых тремя станковыми пулемётами без боеприпасов. Эти трудяги-пулемёты мы разобрали и по частям сбросили в воду. Мы оказались одинокими и безоружными. Мои подчинённые смотрели на меня и ждали моих решений. С ними расставаться было очень тяжело. Мы с грустью смотрели на материк через Ирбенский пролив, там было наше спасение. А как туда проникнуть? Решили сообща пробиваться мелкими партиями, так будет легче пройти незамеченными. Я остался с воентехником нашего полка Паниным. Он был тоже ранен, в ногу. Мы решили пройти камышами. Измотанные до предела, изнемогли от усталости и уснули. Утром при прочёске леса нас обнаружили фашисты и схватили. У Панина оставался один патрон в пистолете для себя, но он не успел выстрелить. Нас избили и забрали в лагерь, находившийся в Валге, в Эстонии. Панин умер от ран и голода.
В этом лагере нас, командиров Советской Армии, оказалось пятьдесят человек из Моонзунда. Нас направили в Германию на станцию Вюльниц на шпалопропиточный завод. Переводчиком у нас был Леонид Фёдорович Андрианов, который наладил связь с подпольщиками немцами. Через него мы знали о действиях фашистов, знали, что 22 июня 1944 года готовилось покушение на Гитлера, имелась связь и с другими лагерями. В день покушения узники должны были восстать, разоружить фашистскую охрану и завладеть складами с оружием и боеприпасами. Был разработан план действия, о нём знали только Леонид Фёдорович и я. В неволе мы продолжали вести борьбу с фашизмом. Каждый пленный на своей подпольной работе имел задание и строго его выполнял. Мы часто выводили из строя кабель высокого напряжения. Неправильно привёртывали пластинки к шпалам, в буксы колёс вагонов насыпали песок, собирали пайки хлеба и готовили к побегу наших товарищей. К сожалению, бежать было очень трудно, всех ловили и возвращали обратно в лагерь, сажали в карцер и сильно избивали. Из всех, кто совершил побег, только один не вернулся, вернее сказать, его не вернули в лагерь. Это Анатолий Рогов, его судьба осталась неизвестной и поныне.
Когда линия фронта приближалась, нас стали перегонять подальше. Привели к реке Эльбе. Там стояло много железнодорожных транспортов, не успевших переехать на ту сторону Эльбы. Мост был разрушен, нас переправили на маленьком понтонном мостике и погнали дальше. Пригнали в какой-то город, разместили в домах, где жили американские и французские военнопленные. Союзные войска освободили этот город, и мы оказались на территории, занятой американцами. Голодные русские пленные успели побывать на продовольственном складе, прихватили питания и курева. Узнав об этом, американцам не понравились такие самовольства. Нам с Леонидом Фёдоровичем пришлось отвечать. Среди военнопленных я был старшим, а Леонид Фёдорович – переводчиком. Меня с Леонидом Фёдоровичем вызвали к американцам. Мы зашли в кабинет и увидели четырёх американских офицеров. Они сидели за столом, около каждого стояла бутылка виски и маленькая рюмка на тонкой ножке. Стол был заставлен всякой закуской. К нам они отнеслись дружелюбно, пригласили за стол. На столе лежали сигареты и пепельницы. Судя по тому, что американцы разговаривали с нами на английском языке и жестами, я понял, что они не знают нашего русского языка. Я сказал Леониду Фёдоровичу:
– Попробовать бы виски, сроду не пил.
Они поинтересовались у Леонида Фёдоровича, что я говорю. Он им перевёл, тогда они налили нам по рюмочке.
– Нам бы по гранёному, – сказал я Леониду Фёдоровичу.
Когда они услышали перевод этих слов, громко рассмеялись, один позвонил, и им принесли гранёные стаканы. Себе они налили по рюмочке, а нам по гранёному стакану. Выпили, закусили. Хоть мы были слабыми, но хмельное нас не брало, мы чувствовали ответственность, не могли ударить в грязь лицом. Русские всегда прикидываются простачками, но дело знают. Им казалось, что такая порция крепостью в сорок градусов нас моментально сшибёт с ног, но мы держались достойно и продолжали беседу. После такого радушного приёма мы поблагодарили за гостеприимство и ушли к своим.
Нас было много, теперь мы оказались главнее немцев. Они бежали, а мы преследовали и вооружались их оружием. Здесь на реке Эльбе мы встретились с нашими регулярными частями Красной Армии. Это были самые счастливые минуты в моей жизни. Сдали оружие. Нас собрали, распределили по железнодорожным эшелонам и направили в распоряжение Смоленского военного округа. Пятого декабря 1945 года я был уволен в запас.
Уехал в Орехово-Зуево к своей семье. О встрече писать не буду, она была трогательной. Началась мирная гражданская жизнь. Побывав в аду, посмотрев смерти в глаза, только тогда сможешь оценить эту жизнь, величие, красоту души русского человека и его добродушие, которые остаются загадкой для иноземцев.
Долго работал на предприятиях Народного хозяйства, был Ударником коммунистического труда, членом профкома. Вместе со мной по трудным дорогам и ухабам жизни шла моя верная жена Мария Васильевна. В 1941 году она эвакуировалась с острова Сааремаа с двумя маленькими дочками, Галочке было четыре года, Ниночке одиннадцать месяцев. Никаких сумок и чемоданов на пароход не принимали, под обстрелом и бомбёжками они семнадцать суток ехали до Гусь-Хрустального, голодные и грязные. Все пережитые ужасы не описать и не рассказать без слёз. В Гусь-Хрустальном она не остановилась, поехала в Орехово-Зуево к своим родителям. На вокзале их встретила сестра Василиса Васильевна. Началась борьба за спасение детей. Врачи сказали, что девочки в безнадёжном состоянии. У родителей была своя корова, бабушка стала отпаивать внучек парным молочком. Великая сила выживания победила – в родном доме и стены помогают, а тем более, когда рядом близкие и добрые родители и сестра.
Девочки выжили, стали прилежно учиться, вышли в люди. Галочка сейчас преподаёт английский язык в Яхромском техникуме, а Ниночка – историю и политэкономию в Дулёвском техникуме. После войны у нас появился сынок Леонид. Работает шофёром. Жизнь стала прекрасной, только мучают болезни. Мне дали инвалидность. Мария Васильевна до сих пор видит во сне, как с детьми спасается от бомбёжки, над головой воет мотор, по щекам бьют стебли кукурузы, на руках Ниночка, к ногам жмётся Галочка, и нет спасения. Просыпается в холодном поту, принимает лекарство, до утра не заснуть. Перенесла четыре операции.
Большую радость нам приносят внуки. Их у нас пятеро, четыре внучки и один внук. Им продолжать наш род, строить прекрасное будущее».
А.Т.Захарченко.
Примечание автора: Мария Васильевна Захарченко умерла в 1988 году.
Зверства двуногих чудовищ
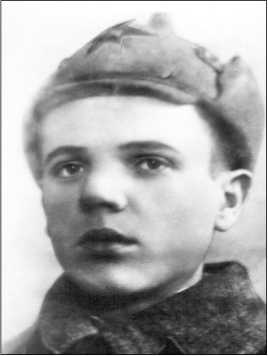
Красноармеец Константин Михайлович Мороз 1941 г.
Константин Михайлович Мороз начал так свои воспоминания:
«Шёл второй месяц Великой Отечественной войны. Я служил в первом отделении первого взвода 34-го отдельного инженерного батальона береговой обороны Балтийского района БОБРа. Мы находились на эстонской пристани Виртсу, занимались переправой груза и людей. К нам прибыл железнодорожный эшелон из Таллина. Он был последним, шли бои под Таллином. Никто из нас не знал, где находится противник. Командир взвода лейтенант В.Богомолов поставил нас троих на охрану пристани, а сам с сорока бойцами пошёл на разведку по направлению к Таллину. Была полная тишина, гражданское население переправлялось через залив и возвращалось с острова Муху, а мы проверяли документы. Над нами пролетел наш советский самолёт, снизился, и лётчик стал махать рукой. Мы решили, что он нас приветствует, и отвечали тем же.
Через некоторое время послышались одиночные винтовочные выстрелы. Это наш взвод встретился с противником и с боями отступал к пристани. Противник был вооружён танками, мотоциклами, мотопехотой. Наш взвод прошёл с боями десять километров и потерял двадцать пять человек. Прибыло на пристань Виртсу шестнадцать человек, из них пять раненых. В их числе был командир взвода. Мне было приказано просмотреть прибывший груз. Он оказался не военным, и было приказано взорвать вагоны. Мы подложили тол и зажгли бикфордов шнур. Меня, не успевшего далеко отойти от вагона, сбросило в воду, двоих ранило. На пристани стоял пароход, которому следовало идти на остров Муху. Остатки взвода, в их числе и мы, подрывники, сели на этот пароход и направились в открытое море. Противник к пристани не подходил, там рвались вагоны. Нас обстреляли из танков, но стоявшие наши малые военные катера взяли огонь на себя, маневрируя возле пристани, дали возможность отойти пароходу. Он несколько раз загорался, но пожар тушили. Израненные и контуженные, мы дошли до острова Муху. Остатки нашего взвода передали второму взводу, которым командовал лейтенант В.Попов. Так закончилось наше первое боевое крещение. Нам стало ясно, почему наш лётчик кружился над нами и махал рукой. Он предупреждал нас о движении немцев в нашу сторону.
С острова Муху нас перебросили на полуостров Кубассаар, где находилась 43-я батарея под командованием Букоткина. Наша рота вступила в бой с большой силой наступавшего противника, высадившегося воздушным десантом. После кровопролитных боёв с десантами мы потеряли половину бойцов. Выданные обоймы патронов были израсходованы, бойцы стали вооружаться трофейными автоматами. На плавсредствах подходили фашистские десантники, батарейцы топили их. Кровопролитные бои продолжались более трёх суток. Израненные подразделения теснились к дамбе, а потом ночью её прошли и оказались на Эзеле. Здесь на полуострове Церель сражались днём и ночью. На второе октября от роты осталось около взвода, затем около сорока человек. Пятого октября мы приняли оборону в лесу около 315-й батареи. Она уже молчала. Ночевали в блиндаже, рано утром прилетел самолёт, обнаружил наш блиндаж и сбросил бомбы. Одна попала в блиндаж и весь разворотила. Много бойцов было убито. Это было шестого октября в 7 часов 20 минут. В 11 часов ночи бойцы кавалерийского взвода откопали блиндаж, высвободили оставшихся в живых и ушли в лес. Я не приходил в сознание. Пришли немцы, пленили живых, раненых расстреляли на месте. Меня бойцы спасли от расстрела.
В плену моя контузия стала понемногу отходить, и я стал разговаривать. Меня заботливо окружали трое бойцов, которые стались в живых из общего количества бывших в блиндаже. Нас привезли в лагерь Валги, который находился на границе Эстонии и Латвии. В этом же лагере находился капитан А.М.Стебель. Нас мучили голодом, холодом, очень много умирало. В мае 1942 года некоторых из нас стали раздавать крупным земельным крестьянам – кулакам. Я угодил к очень богатому хозяину – латышу. Он был богат и жесток, над пленными издевался. Кормили плохо и много заставляли работать. Его сын был полицаем.
С одним узником по имени Алексей мы договорились сбежать. Заготовили немного продуктов, табаку и ночью сбежали. Бежать не было силы, пользуясь темнотой, добрались до леса. Не зная дорог, вскоре мы напоролись на немцев, нас схватили, отправили в Рижскую тюрьму. Мы сказали, что сбежали из вагонов по перевозке пленных. Нас пятьдесят дней держали в тюрьме, затем направили конвоем в лагерь Саласгрива. Это в семидесяти километрах от Рижского залива. В этом лагере нас с Алексеем Зинченко держали до ноября 1943 года, потом отправили в австрийский лагерь Вайден.[2] Австрийский концлагерь был огромный. Там были собраны пленные всех национальностей, русские, поляки, французы, евреи, чехи, болгары и многие другие.
Ввиду переполненности нас отправили в Польшу в концлагерь «Верхняя Силезия». Этот концлагерь был в десяти километрах от города Катовицы. Было нас не менее 500 человек.
Утром меня направили в угольную шахту, которая называлась шахтой Бис. Голодных и истощённых, нас опускали в подземелье, мы еле держались на ногах от головокружения. По разговору в шахте я определил национальность шахтёров. Это были поляки, немцы, шлёнские поляки, фольдюги. Фольдюгами назывались шахтёры, у которых отец был еврей, а мать немка, или наоборот. Меня завели в лаву, где были два немца и один поляк. Я рухнул на грунт от бессилия. Тогда они набросились на меня и начали избивать. Затем, окровавленного бросили в вагонетку, присыпали углём и отправили вагонетку к стволу. Мой стон услышал гиленский поляк по имени Роман. Он вытащил меня из угля, отряхнул, обтёр кровь на лице, посадил возле себя, дал кусочек хлеба и налил из фляги чаю. Он спросил меня о случившемся, я рассказал. Появился начальник участка шахты. Он пристально посмотрел на меня, но ни о чём не стал спрашивать. Было видно, что немцы, которые меня избивали, сказали ему, что я не захотел работать, и они меня проучили. Роман отвёл начальника в сторону, и они долго о чём-то разговаривали. Начальник ушёл, Роман подошёл ко мне и сказал:
– Будешь работать со мной, вместе будем отправлять до ствола вагонетки с углём и подавать пустые.
Так мы работали, я подменял Романа. Но это было редко, он сам всё делал. У нас был сменщик, фольдюг, звали его Оскаром. Он вёл себя надменно, на польском языке не разговаривал, к пленным относился пренебрежительно, всегда был чем-то недоволен. На вид был тощий, злой. Он всё передавал начальству, и мы его постоянно остерегались. Много я от него натерпелся. Как-то он закурил и бросил недокуренную папиросу, и когда я за ней потянулся, он наступил мне на руку.
Пленных опускали в шахту первыми и поднимали последними.
Шёл август 1944 года. Погода стояла прекрасная, природа щедро дарила радость людям, в саду зрели румяные яблоки, головки подсолнухов гнулись от тяжести. Нам это было недоступно, мы находились в шахте по 10 – 12 часов. Потом под конвоем приходили в грязный, вонючий барак. И так каждый день.
Однажды утром нас привели на работу. Я ожидал Романа, чтобы с ним спуститься в шахту. Он пришёл, и мы начали спускаться. Опустились на 800 метров, затем 40 метров прошли по лестнице. Время было достаточно, чтобы поговорить. Роман мне доверял, рассказал о событиях на фронте, какие города освобождены, где находятся русские войска. Русские войска находятся в Катовицах, и скоро будут здесь, сказал Роман. Потом я узнал, что Роман был польским коммунистом. На наши головы падал ливень воды, и Роман дал сигнал. Пришла вагонетка гружённая, затем пустая. Когда Роман ушёл, ко мне подошёл Оскар. Он стал разговаривать со мной на польском языке, что никогда не делал до этого. Он стал заискивающе добрым, угощал хлебом и чаем, меня это удивило и насторожило. Неожиданно он задал вопрос:
– Что сделают со мной русские, когда придут?
– Лично я бы тебя повесил, – ответил я спокойно.
Он никак не отреагировал на мои слова, старался войти ко мне в доверие.
– Русские недалеко, есть приказ немцев и поляков поднять из шахты, а военнопленных оставить и затопить, – сказал он мне на ухо, понизив голос.
Наш разговор прервался с появлением Романа. Зазвенел телефон, Роман взял трубку.
– Слушайте приказ, – кричал в трубку фашист, – немцам и полякам подойти к главному стволу, пленным оставаться на месте.
Роман положил трубку, я спустил его на сорокаметровую. На пульте остался Оскар. Всех немцев и поляков он переправлял к главному стволу, затем попросил меня спустить его к стволу. Пришла с углём вагонетка, он встал на уголь, и я опустил эту вагонетку в ствол. Когда вагонетка дошла до половины, я дал полный, и вагонетка рухнула, обратно пришёл оборванный конец семидесятиметрового троса. Так Оскар ответил за всё.
Когда все немцы и поляки подошли к главному стволу, они с Романом уже были осведомлены о плане затопления военнопленных. Ни один немец и поляк не захотели подниматься до тех пор, пока не поднимут всех пленных. Они не хотели отвечать вместе с фашистами за это злодеяние. Всех военнопленных подняли из шахты и повели в барак.
Там разрезали хлеб, одну буханку на десять человек, разделили, построили всех в колонну и погнали в Карпаты. Фашисты не хотели, чтобы военнопленные попали к русским войскам.
Огромная колонна из двадцати тысяч человек двигалась в сторону Чехословакии. По пути многих расстреливали за подозрение к побегу. Днём эта колонна двигалась, а ночью всех загоняли в воду. Мы стояли в воде, а с гор нас расстреливали из пулемётов. Утром всех раненых добивали. И это длилось на протяжении восьми – десяти дней. Нас оставалось всё меньше и меньше. Потом всю эту колонну вывели на асфальтовую чехословацкую дорогу. Чехи и словаки узнали об этом, стали выносить куски хлеба и варёную картошку и оставляли на обочине дороги. Пленные проходили и с жадностью голодных набрасывались на пищу, гитлеровцы не разрешали брать и расстреливали всех, кто осмеливался нагнуться. Истощённые и голодные стали падать, их добивали из автоматов. Примерно 25-го марта нас загнали в большие кирпичные сараи в какой-то деревне и закрыли двери на всю ночь. Утром через щели стал проникать свет, но нас никто не выпускал. Нас было так много, что мы могли только стоять. Тяжело было дышать. Мы стали стучать, бить в двери ногами, но никто к дверям не подходил. Начали выламывать дверь, и она открылась. Из охраны никого не было. Это были оставленные хозяевами баурские хутора. Мы начали находить оставленные продукты и сразу их поедали, многие погибли от заворота кишок.
Мы были в десяти – пятнадцати километрах от города Вайден, который находился в ведении американских войск. Через восемь – десять дней нас всех собрали и отправили в Вайденский лагерь, который охраняли американцы. В апреле месяце произошёл обмен русских и американских военнопленных. Нас привезли в город Хиров в Западную Украину на фильтрационный пункт. Оттуда я попал в 105-й запасной полк, который вёл борьбу с бандитами. Там я служил до апреля 1946 года, оттуда демобилизовался.
Прошло много времени, но вспоминается это как жуткий кошмар. Видно, судьба меня наградила выносливостью и невероятным терпением, что я чудом уцелел и дожил до настоящего времени».
К. Мороз
Партизанскими тропами на польской земле

Командир группы партизан в Польше Анатолий Леонтьевич Гоненко 1945 г.
Рассказ поведёт Анатолий Леонтьевич Гоненко.
Имя этого славного патриота упоминалось, когда описывались бои на островах Муху и Эзель, там он был пулемётчиком в морском отряде Д.А.Овсянникова.
Этот рассказ был записан на магнитную ленту в институте истории партии при ЦК ПОРП.
«Я, Гоненко Анатолий Леонтьевич, гражданин Советского Союза, родился 11 мая 1920 года в деревне Каменка Локтевского района Алтайского края.
В нашей деревне в 1920-м году была образована коммуна «К свету».
10-го июня коммунары ежегодно праздновали день коммуны.
Учился в сельской школе, которую окончил в 1937 году и пошёл работать бухгалтером.
В 1939 году был призван служить в Военно-Морском флоте в Ленинграде. Здесь окончил специальную школу моряков пограничных войск, был послан служить у границ СССР на Балтийском море.
В 1941 году вспыхнула война. Наше подразделение участвовало при защите города Таллина. После его захвата был направлен на защиту Моонзундских островов: Эзеля и Муху. В ходе ожесточённых боёв наши силы были разбиты, на полуострове Церели был ранен в плечо. Попал в госпиталь, там меня пленили. Со связанными руками погрузили в железнодорожный эшелон и привезли в город Ригу, в 350-й немецкий лагерь для военнопленных.
Много горя мы здесь хлебнули. Нас заставляли носить дрова со станции в лагерь. На болезнь и ранение скидок не было. Многие умирали. Мои близкие товарищи стали организовывать побег. Меня включили третьим.
Намечаемый побег с подкопом под проволоку кончился неудачей, всех троих заключили в карцер. В неимоверных условиях мы просидели в карцере всю зиму. Весной погрузили в эшелон и направили в Германию. До Германии не довезли, привезли в Силезию, сформировали специальную команду и направили в угольные шахты.
Я попал в шахту в городе Бытом. Там был небольшой лагерь с названием «Лагерь 100». В этом лагере находилось 100 военнопленных. Каждый день после работы умирало по пятнадцать и более человек, снова пополнялось до ста. Наша тройка снова начала готовиться к побегу. Мы изучали ошибки неудачных побегов. Общаться с заключёнными в карцере было невозможно, всюду была слежка. Как-то на меня наскочил полицай, который разносил пищу заключённым. Он внезапно задал мне вопрос:
– Анатолий, ты офицер, и хочешь бежать из лагеря?
Я имел звание морского старшины.
– Откуда ты это взял?
– Вот я так думаю, – ответил полицай.
Я смотрел на этого провокатора, и мне хотелось раздавить его, как тифозную вошь. Надо было иметь великое терпение, чтобы удержаться.
– Конечно, каждый настоящий человек должен стремиться сбежать отсюда, – ответил я.
Этот полицай, пожилой человек, почти старик, после нашего разговора стал относиться ко мне с какой-то симпатией. Сказал мне, что он из Винницкой области, назвал свою фамилию. У меня было к нему по-прежнему отвращение, но он этого вроде не замечал. Свои чувства ко мне он не выражал на людях, скрывал, но при раздаче хлеба старался дать мне горбушку, баланды налить побольше. Через него я стал иметь доступ к товарищам, которые томились в карцерах. От них я узнал нужные данные о побеге, что можно использовать трёхкилометровый запасной ход из шахты, где можно переходить колючую проволоку. Втроём мы решили совершить побег новым, неизвестным немцам способом.
Стали изучать территорию шахты. Наверху работали слабые узники, не способные спускаться в шахту. Эта работа называлась «на гора». Через этих людей мы узнали, какой высоты забор, охрану шахты снаружи и внутри. Узнали, что конвой находился в основном в проходной. Снаружи охраняли шахту вольнонаёмные, вооружённые винтовками.
Нас было трое: Андрющенко Иван Никитович, бывший директор средней школы Киевской области деревни Митьки, Хорхалев Георгий, шофёр из Минска и я. На Хорхалева надеялись, если придётся воспользоваться по дороге автомашиной.
Мы готовили продукты на дорогу, нашли нож. Знакомому полицаю я сказал:
– Я готовлюсь бежать, ты мне помогай.
Он выкраивал лишнюю порцию хлеба, лишний черпак супа. Я проверял его, сказал, что бежим завтра, можешь доложить администрации. Он не донёс.
Работа на шахте велась круглосуточно, мы узнали порядок смен, в какую неделю нас будут спускать ночью, в 23 часа. В это время из шахты выезжали наверх штатские «цивильные» шахтёры. Они носили шахтёрскую шапку с козырьком, а мы, пленные, без козырька. К этому времени мы подготовили себе шапки с козырьками, пришили кожу от ботинок.
Иван Андрющенко, «Андрюшка», работал по электрике узкоколейной дороги в шахте с поляком. Я был приставлен к поляку по фамилии Тундера. Это был очень хороший человек. Он делился со мной хлебом, наливал из своей бутылки кофе. Во время его обеда я отходил в сторону, он мне оставлял тонкий кусочек хлеба, помазанный маслом. Для голодного человека запах пищи ощущался на расстоянии, он это понимал, и со своими товарищами складывал по маленькой крохе хлеба и приносил нам. Я признался ему, что мечтаю сбежать. Они достали нам штатскую одежду, на нашей были выведены жёлтой краской буквы «SU».
Был в шахте надзиратель Паулюс. Он часто бил меня, посылал на плохую, опасную работу, такую, как вытаскивание бампера, металлического столба с сердечником. Надо было выбить клин, после этого выгребать уголь.
У нас всё было подготовлено к побегу.
В день побега мне пришлось много поработать, я выкопал большую гору угля и получил похвалу от Паулюса. Приблизившись к нему, я ударил со всей силы карбидной лампой его по голове, он свалился, я схватил его за горло и задушил. Потом закопал в уголь его труп и убежал в условленное место встречи.
Третьего не оказалось, Хорхалев, видимо струсил, ссылаясь на плохое самочувствие. Мы пришли к выводу, что Хорхалев нас не выдаст. С «Андрюшкой» мы быстро переоделись в приготовленную и спрятанную одежду. Пошли по главному входу в лифт. Мы были последними, за нами шёл только один шахтёр из этой смены. Возле лифта нас заметил один наш товарищ, который обслуживал гружёные углём тачки. Он покраснел, побелел и вспотел, когда узнал о нашем побеге. Подошла клеть, и мы выехали наверх. Мы подошли к забору, лампы-карбидки были с нами на случай самообороны. «Андрюшка» наклонился, я забрался на его спину. Он выпрямился, я подпрыгнул и достал руками верх забора. Потом он, держась за мои ноги, перевалился вместе со мной на другую сторону забора. Мы переползли на четвереньках открытое место, затем встали на ноги, начали уходить. Дошли до широкой речки со шлюзами. На мосту стояла полосатая будка, в которой был пост. Из неё вышел человек с винтовкой.
– Стуй, кто идзе? – крикнул постовой по-польски.
По его сутулости и голосу мы поняли, что постовой был старик.



